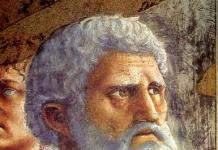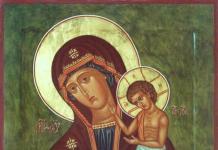Ф. Ницше «Воля к власти»
С О Д Е Р Ж А Н И Е
§ 1. Постановка проблемы…………………………………………………... 3
§ 2. Анализ книги Ф. Ницше «Воля к власти»……………………………... 4
§ 3. Выводы…………………………………………………………………. 11
§ 4. Источники……………………………………………………………… 12
§ 1. Постановка проблемы
Интерес к Ницше не ослабевает уже второе столетие. И если для своих современников он скорее был пророком начавшегося духовного кризиса и грядущих социальных катастроф, потрясших западную цивилизацию в XX веке, то для нас, живущих в глобализованном мире, который строится по западному образцу, Ницше, возможно, выразитель волевого начала цивилизации, внешне успешной и доминирующей, но изнутри пораженной безверием и нигилизмом, а значит, ослаблением воли. Философия Ницше неоднозначна и усиливает кристаллизацию понятий и ценностей. Цивилизация, на данный исторический момент задающая тон развитию всего мира, пытается осознать себя. И в этом отношении страстно и странно написанная книга Фридриха Ницше «Воля к власти» не утратила своей остроты.
Российскому читателю она тем более интересна, что впервые на русском без цензуры работа была издана в 2005 году. Этот «незавершенный трактат» Ницше существовал лишь в набросках и вышел в свет после его смерти в реконструкции его сестры Элизабет Ферстер-Ницше и его друга Петера Гаста.
Ницше задумал эту книгу жизни в 1883 году и активно работал над ней до своей трагической болезни - безумия, начавшегося шесть лет спустя, и кончины в 1900 году.
Материал «Воли к власти», согласно плану самого философа (1887 года), разделен на четыре книги, а вернее, части: «Европейский нигилизм» (I ), «Критика прежних высших ценностей» (II ), «Принцип новой оценки» (III ), «Порода и взращивание» (IV ). Вся книга содержит 1067 фрагментов (хотя случались издания, содержавшие почти 9000 отрывков, например немецкое академическое издание, 1967). Но через мозаику набросков и суждений проступает строгая концепция, «система в афоризмах ».
§ 2. Анализ книги Ф. Ницше «Воля к власти»
Тема воли к власти проходит у Ницше через все его творчество, начиная с работы «Так говорил Заратустра». Волю к власти Ницше понимает как принцип существования. Но если поначалу философ трактовал неудовлетворенную волю как источник страданий, от которых освободить может эстетика, искусство, а позже - интеллект, эмпирическое познание, то постепенно Ницше приходит к пониманию воли как оптимистичного утверждения жизни.
Теперь он интерпретирует волю как волю к жизни, а значит, и властвованию, потому что жизнь основана на стремлении к власти, к мощи. Закон выживания состоит в выживании сильнейшего, что согласуется с дарвиновской теорией естественного отбора. А так как именно борьба за существование, жестокая борьба за выживание сильнейших, является условием эволюционного развития видов, то следует без жалоб принимать эту борьбу. Нужно стремиться к силе и мощи, а не к слабости и немощи. Это - основной инстинкт живых существ. Слабое должно пасть и погибнуть, а сильное - подняться выше и укрепиться. В «Воле к власти» Ницше прославляет радость упорной и ожесточенной борьбы за жизнь.
Так он пытается лечить свой больной, изнеженный век. Именно пессимизм и расслабленность, обывательскую успокоенность современников он воспринимает как упадок и болезнь культуры. Жизнь – это рост, власть, мощь, воля наперекор преградам. Значит, нужно их преодоление и возрождение «воли к власти». Ницше подчеркивает, что воля к власти - это воля к насилию, господству. Но именно воли к власти нет в высших человеческих ценностях - в заповедях, как он считает, наоборот, преобладают ценности деградации, нигилизма. А мысли, правящие миром, должны быть сильными, утверждает Ницше. Против этого трудно возражать, хотя вряд ли условие это достаточно для правящих миром идей.
Целью Ницше при написании этой книги была переоценка всех ценностей, что подчеркнуто в подзаголовке произведения. Проявления принципа воли к власти как квинтэссенции жизни он ищет в философии, религии, естествознании, политике, искусстве, что, в свою очередь, расходясь с принятыми устоями общества, вело к пересмотру ценностей. Ценности - условие сохранения и развития сложных образований. А ложные ценностные конструкции, мифы культуры, ее ловушки и маски подменяют «волю к власти» так называемой «истиной бытия ».
Ницше восстает против жизни «простого смертного», подчиняющегося «стадным инстинктам». Упрекает старую мораль в потакании слабым и утверждает новые ценности, связанные с волей как жизненной силой и властью. Считает, что именно воля как центр силы конструирует мир и ценности. А так как, по Ницше, «Бог мертв», ибо вера в сверхъестественное, высшее пошатнулась и оказалась развенчанной с наступлением века рационализма и нигилизма, то на место Бога у Ницше встает сверхчеловек, сущность которого «волится из воли к власти», и за ним - будущее. Так Ницше понимает утрату веры в смысл жизни и смерти, в «потусторонние» иллюзии - так «умирает Бог».
Приходящее на место веры знание (научное) интерпретирует потустороннее как «ничто». На смену вере и знанию приходит нигилизм. И хотя Ницше пытается преодолеть эту гибельную триаду , его собственная философия строится на постулатах естествознания. Это своеобразная реакция на усиливающееся влияние науки и материализма, которые поставили религию и мораль под сомнение и не смогли предложить ничего, кроме агностицизма (согласно которому любые абсолютные основания реальности непознаваемы, так как не могут быть подтверждены опытной наукой).
У Ницше происходит невольная подмена цели и средства, ибо если целью может быть жизнь, познание, творчество, то воля - это только инструмент, в том числе и воля к власти. В сообществе животных инстинктивным является стремление к выживанию, средством для чего может быть как доминирование, так и подчинение, то есть совершенно разное отношение к «власти». Да и сама власть скорее понятие человеческого сообщества, а не зоологического. Уже поэтому принцип воли к власти нельзя считать универсальным, на чем настаивает Ницше.
Применительно же к человеческому обществу и социальной жизни власть принадлежит к числу высших, нередко необъявленных, ценностей, но это скорее ценности второго уровня, инструментальные, так как выживание в социуме связано не только с властью, - это лишь один из механизмов. У воли к власти должны быть цель и вектор развития. Если это сверхчеловек, как представляет Ницше, то речь идет о выращивании касты власти с претензией на изменение природы такого человека, что для истории не ново. Но амбиции либо претензии никогда не заменят сущности.
Понятие власти у Ницше оказалось неразрывно связанным с понятием нигилизма. Констатация и диагностика нигилизма, этого «самого страшного из гостей», по выражению самого мыслителя, как главной проблемы, стоящей перед лицом европейского человечества уже с первых страниц «Воли к власти», задают магистральную линию ницшеанского вопрошания о власти и очерчивают возможные контуры новой метафизики власти.
Согласно Ницше характерные для современной ему Европы конца XIX века всеобщая упорядоченность, интеллектуально обозримая и безликая, ставшая образцом научного знания, стремление к социальному и политическому равенству приводят к ослаблению жизненных сил культуры. Из нее исчезает дух героизма и непредсказуемости, в результате чего торжествует посредственность, а личность растворяется в безликости толпы. Этапы развития европейской культуры, приведшие ее к плачевному состоянию, Ницше диагностирует как этапы прогрессирующего развития нигилизма.
Сам Ницше определяет нигилизм как отрицание жизни и высших ценностей. И если прежде нигилизм означал обесценивание и отрицание жизни во имя высших ценностей, таких, как Бог, то современная эпоха порождает согласно Ницше новую форму нигилизма - отрицание этих прежде утверждаемых высших ценностей и замену их ценностями «человеческими, слишком человеческими» (так называется одна из книг самого Ницше). Мораль заменяет религию, как, например, в философии Канта и в эпоху Просвещения в целом; польза, прогресс, история встают на место божественных установлений.
Нигилизм для Ницше - это не только позитивистский дух науки XIX в., но более широкое историческое движение, затрагивающее всю историю Запада последних столетий и лишь с особой силой проявляющееся в позитивизме, пессимизме и социализме. Истолкование самой сути этого нигилизма Ницше сводит к краткой формуле «Бог мертв». В словах Ницше мы сталкиваемся не с выражением личных убеждений атеиста , но с проницательными констатациями пророка. «Бог умер»: это значит, что христианский Бог, Бог западной метафизики - уже мертвая фикция ума, «голая идея», абстрактный смысл. В лучшем случае этот Бог представляет собой некоего идола, некую условную «ценность». Действительно, он никак не влияет на жизнь европейца, вовсе не он придает смысл существованию человека, мира и истории. На Западе место Бога пусто: Бог есть отсутствие. Это отсутствие уничтожает всякую жизненную истину по ту сторону тленности и смерти и определяет содержание европейского нигилизма. Именно в силу того, что европейская метафизика предлагает абсолютизирование, рационалистически принять Бога, она приготовляет и возможность рационалистически отрицать его. Смерть Бога есть итог почти тысячелетнего исторического развития этого абсолютизированного и обоюдоострого рационализма в пространстве западноевропейской цивилизации.
Нигилизм - это исторический процесс, в ходе которого «сверхчувственное» в его господствующей высоте становится шатким и ничтожным, так как само сущее теряет свою ценность и смысл. Поэтому нигилизм - это не очередное модное воззрение или течение мысли со своими кумирами, основоположниками, представителями. Наоборот, нигилизм - это то, чему отныне суждено проявляться во всех воззрениях, ибо это - история сущего, когда медленно, но неотвратимо выходит на свет смерть христианского Бога в сердцах европейцев. Да, в этого Бога еще долго будут верить и считать, что он по-прежнему оказывает определяющее воздействие на мир и судьбы человечества, но для Ницше подобная вера похожа на свет уже угасшей звезды, когда сама звезда исчезла, а ее свет виден еще некоторое время, создавая онтическую иллюзию присутствия. Смерть Бога для Ницше - основное событие современности, впервые прочувствованное и до конца понятое им самим. Это событие требует новой переоценки всех ценностей, поскольку прежние ценности, связанные с христианским Богом и сферой сверхчувственного, вообще утратили свой смысл. И теперь классически понятый нигилизм означает освобождение от прежних ценностей, но для новой переоценки ценностей - задачи, которую Ницше ставит перед собственной философией. Это означает, что пассивный нигилизм разочарования в ценностях прошлого должен смениться активным нигилизмом возрастания мощи духа и жизненных сил, который решительно критикует прежние ценности и утверждает новые цели, ценности и перспективы. В центре этого утверждающего нигилизма Ницше ставит свое учение о воле к власти и сверхчеловеке.
На последнем этапе нигилизма все ценности прежних эпох приходят в упадок, все обессмысливается и воля погружается в бездействие. Современный человек, собственно, по-настоящему уже ничего и не хочет, а лишь пытается по инерции продолжать полученный когда-то импульс жизни, все более и более погружаясь в рутину мелких выгод и удовольствий. Но именно в этот момент сумерек культуры, когда ее судьба, казалось бы, предрешена, и открывается последняя возможность ее выживания, возможность для переоценки заново всех прежних ценностей, для нового переосмысления понятий добра и зла. И это не просто возвращение воли, это - новый, невиданный прежде ее порыв.
Здесь, по Ницше, на первое место выходит поддерживаемая изначальным импульсом жизни воля к власти, лишенная всяких моральных противовесов. «Что хорошо? - спрашивает Ницше и сам же дает ответ: все, что повышает в человеке чувство власти, волю к власти, самую власть. Что дурно? Все, что происходит из слабости».
Здесь нужно уточнить, что же понимает Ницше под «властью». «Власть» здесь вовсе не означает распоряжения другими людьми, эта власть не политическая или социальная, но метафизическая, выстраиваемая сознательно как принцип жизни. Природа воли к власти, по Ницше, - не в том, чтобы просто господствовать, распоряжаться или брать (для этого вовсе не требовалась бы такая фундаментальная переоценка всех ценностей), но в том, чтобы творить и отдавать.
Воля к власти - эта сознательная воля к опьянению жизнью. Это - сама тайна жизни, основная черта всего сущего. Все сущее, поскольку оно вообще есть, и в том виде, как оно на самом деле есть, - это «воля к власти». И познание, если оно не умерло в абстракциях разума и не оторвалось от жизни окончательно, действительно только как орудие власти. Законы науки - всего лишь полезные фикции, а истина - полезное заблуждение. Ницше отвергает христианство как религию, сознательно ослабляющую жизнь и противостоящую «воле к власти», то есть как религию, направленную против жизни и законов мироздания, а значит, религию (в новой, ницшеанской шкале ценностей) аморальную.
Для Ницше равным образом неприемлемо как утверждаемое христианством равенство людей перед богом (жизнь создала людей неравными, поскольку у них разная сила воли к власти), так и религиозное смирение (что означает опять-таки подавление в себе этой воли к власти). Ницше отвергает и все виды социалистических учений, видя в них «восстание рабов в морали». На место умершего Бога прежней культуры должен встать сверхчеловек, презирающий прежние моральные ценности и утверждающий свою безграничную волю к власти. Образ сверхчеловека встает со страниц главного произведения Ницше - «Так говорил Заратустра» (1885), где Ницше вкладывает в уста стилизованного им под свою философию древнеперсидского религиозного реформатора свои сокровеннейшие мысли о сверхчеловеке (образцом которого ницшеанский Заратустра и является). Заратустра, сверхчеловек - это «танцующая звезда», вечное движение и становление, лишенное атрибутов устойчивого бытия, он - чистая воля к власти, утверждение жизни за пределами истины и лжи, за пределами добра и зла. В своих последних произведениях Ницше пророчествует о гибели современной ему цивилизации, о мировых войнах и новом устройстве мира. И хотя прогнозы Ницше казались современникам чрезмерно пессимистическими, своего рода плодами болезненного воображения, многие из них в XX веке осуществились (достаточно упомянуть две мировые войны, появление массовой культуры и единой Европы), а его философия оказала влияние на всю европейскую культуру XX века.
Власть постоянно находится в движении, и «воле к власти» противостоит не достигнутая и обретенная власть, но «воля к безвластию». Сущность власти как раз и заключается в «воле к власти», то есть в воле к преодолению и расширению себя самой. Но когда мерой всего становится лишь количество возросшей и организованной власти, то мы переходим в полностью нигилистическое измерение, отрицающее саму возможность задаваться вопросами о бытийных источниках и целях самой власти.
§ 3. Выводы
Воля к власти представляет собой основное понятие в философии Ницше, используемое им для обозначения принципа объяснения всего совершающегося в мире как таковом; его субстанциальной основы и фундаментальной движущей силы. Это то, с помощью чего все должно быть в конечном счете истолковано и к чему все должно быть сведено.
Воля к власти – понятие, подвергавшееся в истории философии беспрецедентным искажениям и фальсификациям; оно и по сей день остается объектом самых различных интерпретаций в том числе и потому, что сам Ницше не особо заботился объяснить, что же все-таки он под ним понимает.
В то же время Ницше не мог знать, что его аристократичный конструкт - сверхчеловек - будет удобной ширмой для «людей из толпы», безликих и слабых, неполноценных и ущемленных, и в силу этого склонных к насилию и имморализму, бесчеловечности и жестокости. Сверхчеловек оказался Нечеловеком, а не Богочеловеком.
Ницше писал Г. Брандесу, что «весь мир содрогнется», когда увидит его новую книгу: «Я - настоящее бедствие». Это действительно книга, которая взрывает устоявшееся понимание вещей. В ней есть предвосхищение чудовищного кризиса и катастроф XX века, которые поначалу произошли не в социально-экономической и политической сферах, не в материальном бытии, а в умах и душах людей.
Я думаю, что возможно, самой страшной расплатой за «переоценку ценностей» и понимание жизни прежде всего как воли к власти, за ее абсолютизацию является разрушение души и сошествие с ума - как отдельного человека (что и случилось с автором книги), так и целых обществ, а в пределе - всего человечества. Ибо гипертрофированная воля к власти сродни безумию и ведет к разрушению, что наглядно подтверждает Новейшая история.
§ 4. Источники
1. Семенова, к власти: [рецензия] / // Власть. – 2005. – N 8. – С. 84-85.
2. Мюрберг, И. о современном человеке в пространстве политического // Вопросы философии. – 2009. – N 5. – С. 47-60.
3. Косыхин, власти и проблема нигилизма в европейской философии // Власть. – 2008. – N 3. – С. 90-94.
Ницше, Ф. Воля к власти / Пер. с нем. – М.: Культурная революция, 2005. – 880 с.
Артур Шопенгауэр - немецкий философ-идеалист; снискал себе славу как блестящий эссеист. Считал себя последователем Канта. При интерпретации его философских взглядов основной акцент делал на учении об априорных формах чувственности в ущерб учению о категориальной структуре мышления. Выделял два аспекта понимания субъекта: тот, который дан в качестве объекта восприятия, и тот, который является субъектом сам по себе. Мир как представление всецело обусловлен субъектом и является сферой видимости.
Шопенгауэр - сторонник волюнтаризма. Воля в его учении предстает как космический принцип, лежащий в основе мироздания. Воля, будучи темной и таинственной силой, крайне эгоцентрична, что означает для каждого индивида вечное стремление, беспокойство, конфликты с другими людьми.
Главная мысль философии А. Шопенгауэра состоит в том, что сначала мир существует как воля. На высшей ступени своей объективации слепая бессознательная воля освещается сознанием и порождает мир как представление. Субъект – воля, порождает объект (мир). Познаваемым является мир как представление, мир как объект, который не существует без субъекта.
Согласно А. Шопенгауэру, существует мир действительный и мир кажущийся. Кажущийся мир - это мир представлений, действительный мир - это мир, как воля. По мнению А. Шопенгауэра, воля - это то, что дано человеку непосредственно, как его тело. Все, что мы знаем, лежит не вне сознания, не вне субъекта, а внутри него. “Извне нельзя проникнуть до существа вещей” - говорит философ, и судит о нем по аналогии с человеком. Человек может познать себя, а через себя и весь мир. “Индивидууму, являющемуся субъектом познания, дано слово разгадки: и это слово и есть воля. Она и только она дает ему ключ к собственному явлению, раскрывает значение, указывает внутренний механизм его собственного существа, собственных действий. Действие тела - не что иное, как объективированный, то есть выступивший в созерцании акт воли... Все тело не что иное, как объективированная, то есть перешедшая в представление воля” .
Являясь нашим непосредственным знанием о мире и нашей сущностью, шопенгауэровская воля недоступна нашему познанию, является “вещью в себе”. Она не подчиняется закону основания, существует вне времени и пространства, то есть вечна и бесконечна; не подчиняется принципу причинности - ничем не порождаема сама, не порождает все в мире. Как “вещь в себе” воля едина, но имеет множество проявлений. Она - единственная реальность.
А. Шопенгауэр использует понятие воли для обозначения сущности не только человека, но и сущности всех явлений объективного мира. Он приходит к тому, что признает “и силу, которая питает и развивает растения, даже силу, которая образует кристалл, которая обращает магнит к северу, которая в виде удара отвечает ему на прикосновение к разнородным металлам, которая в сродстве материи проявляется притяжением и отталкиванием... различным лишь в явлении, а по сущности тождественным с тем самым, которое в своем проявлении называется волей”
В самой низшей форме воля является как механическая причина: “самыми низшими ступенями объективации являются общие силы природы, каковы притяжение, непроницаемость..., твердость, жидкость..., электричество, магнетизм, химические свойства”
Самым высшим проявлением воли, наиболее развитым, освещенным сознанием, является человек. Однако, для А. Шопенгауэра, интеллект, познание является вспомогательным средством, орудием в руках воли. Вместе с интеллектом возникает мир как представление со всеми своими формами: пространством и временем, субъектом и объектом, причинностью и множественностью. Мир перестает быть только волей, он становится и представлением, объектом познания.
Философ отметил отличие человека от животных в разумной воле и показал, что только человек обладает свободой воли, которая проявляется в возможности свободного выбора.
Учение А. Шопенгауэра о воле, как сущности мира, в целом есть попытка представить мир как нечто иррациональное, не подчиняющееся законам разума, а, следовательно, недоступное познанию при помощи интеллекта. Мировая воля - это темный неразумный порыв, стремление, определяющее само себя изнутри. Воля в природе, как и воля в человеке - это постоянное хотение, стремление, желание, которое никогда полностью не осуществляется. Все, что познает личность в окружающем мире, сводится в итоге к познанию ею воли.
В своей философской концепции А. Шопенгауэр отдал приоритет воле, противопоставил ее интеллекту, отвел ему роль вспомогательного средства в приспособлении индивида к чувственно - вспомогательному миру, который есть не более как представление, создаваемое в сознании все той же слепой, бессознательной мировой волей. Все волевые акты, по утверждению автора, - бесцельны, а, следовательно, они тождественны перед лицом нравственной оценки, и имеют, по существу, разрушительный характер. Отсюда, и пессимизм А. Шопенгауэра, его неверие в счастье и проповедь отказа от воли к жизни через аскетизм и квиетизм, - жизнь никчемна, стремление к счастью неосуществимо, так как жизнью управляет слепая, бесцельная воля к жизни.
Фридрих Ницше - немецкий философ, один из основоположников современного иррационализма в форме философии жизни. Его взгляды претерпели определенную эволюцию от романтической эстезации опыта культуры через "переоценку всех ценностей" и критику "европейского нигилизма" к всеобъемлющей концепции волюнтаризма.
Основными положениями зрелой философии Ницше являются:
1) все существующее есть воля к власти, могуществу;
2) сам мир есть множество борющихся друг с другом картин мира, или перспектив, исходящих из центров власти - перспективизм.
Учение о воле как сущности мира получило своеобразную разработку в ницшеанской теории власти. Философия Фридриха Ницше является наиболее ярким проявлением философского иррационализма. В этом плане Ф. Ницше может рассматриваться как идейный продолжатель А. Шопенгауэра. Однако созерцательный волюнтаризм своего предшественника он превращает в философию активного действия. Если позиция А. Шопенгауэра - это проповедь ухода от всех форм социальной активности, отказа от жизни путем отрицания воли к жизни, то концепция Ф. Ницше о воле к власти - это позиция бунтарского негативизма. Подобно А. Шопенгауэру, Ф. Ницше отводит разуму подчиненную роль в познании, ставит на его место инстинкт и интуицию. Он отмечал, что сознание не тождественно всей психической жизни человека, которая включает в себя бессознательные эффекты, неподвластные сознанию. Однако из этого он делает вывод, что сознание не есть руководящий центр психической жизни человека. Сознанию он, как и его предшественник, отводит функцию сношения с внешним миром, поиска наиболее полезного. “Мера того, что вообще доходит до нашего сознания, - утверждал Ф. Ницше, - находится в полнейшей зависимости от грубой полезности осознания...” .
Ф. Ницше объявил фикциями все основные понятия рационалистической философии (субъекта, сознания, познания, истины, субстанции). С его точки зрения любое наше представление, понятие есть результат обработки мира субъектом. Отсюда, задача человеческого познания, - в том, чтобы проинтерпретировать представление, выявить его истинный смысл. В теории познания Ф. Ницше важно не то, истинны или нет наши суждения, понятия, представления, а то, помогают ли они нам возвыситься над другими людьми, увеличивают ли нашу власть. Только тогда являются они ценными и истинными, если делают нас сильными.
Мир Ф. Ницше представляет собой противоборство борющихся воль. Он отверг отказ А. Шопенгауэра от воли к жизни как средство спасения и провозгласил волю к власти, дав тем самым новую интерпретацию мира. Мир у него - это воля к власти, жизнь - это воля к власти. Познание есть одна из форм проявления жизни, подчиненная воле к власти, оно есть “воля к созиданию”.
Ф. Ницше приравнивает человеческое познание и всю человеческую жизнедеятельность к познанию животных. Понятие общественного прогресса он заменяет учением о становлении. Действительный мир - это мир вечного становления. Мир как воля к власти не имеет цели, а, поскольку осуществляется без цели и намерения, постольку оно представляет собой не поступательное движение по спирали, а движение по кругу; достигнув конечной точки, оно повторяется вновь и вновь. Путем подобных размышлений Ф. Ницше приходит к учению о “вечном возвращении”.
Ф. Ницше заменяет атом “некоторым количеством воли и власти”. В неорганическом мире воля к власти у Ф. Ницше выступает, по выражению Теодора Шварца, “в виде поля боя динамичных квантов”. “В сущности, - пишет Ф. Ницше, - имеется только воля к насилию и воля защищать себя от насилия... Каждый атом производит свое действие на все бытие, - мы упраздним атом, если мы упраздним излучение воли к власти”
Все живые существа, начиная с клетки и кончая человеком, представляют собой, определенную иерархию сил, борющихся за власть и отличающихся друг от друга количеством и качеством воли к власти. Закон жизни, утверждаемый Ф. Ницше, заключается в том, что сильные подчиняют себе слабых, угнетают их, живут за их счет. “Воля к власти во всякой комбинации сил, обороняющаяся против более сильного, нападающая на более слабое”
Социальную жизнь Ф. Ницше приравнивает к биологической, в основе которой лежит та же воля к власти. Человеческое общество - не более как механическое скопление индивидуумов, борющихся за власть, а в обществе происходит такая же борьба за выживание, как и в природе. Побеждают сильнейшие, то есть те, кто наделен большей и лучшей волей к власти, а сильнейшими являются представители “расы господ”. Отличие человека от животных Ф. Ницше усматривает в способности оценивать и осознавать свои поступки - человек в отличие от животного осознает, насколько тяжело подчинить себе волю другого, и какой вред он наносит себе, властвуя над другим. Ф. Ницше оправдывает стремление организмов к власти, ибо это есть стремление к жизни.
Исходя из теории “воли и власти” Ф. Ницше рассматривает историю как борьбу двух типов воли к власти: воли к власти “сильных” или господ, которая есть стремление к господству, и воли к власти “слабых” или рабов, которая есть стремление к подчинению, к ослаблению жизни. Причину жалкого положения трудящихся он видит в них самих. Она заключается в их бедности волей к власти, а, следовательно, волей к жизни, которая одна только и делает человека господином над другими людьми.
Итак, вслед за А. Шопенгауэром, сущностью, первоосновой мира Ф. Ницше объявляет волю, - волю к власти. Учение его столь же иррационально, как и учение его предшественника, ибо разум - лишь вспомогательный инструмент в руках непознаваемой, вездесущей воли к власти.
Вывод. философия Шопенгауэра рассматривает волю, как сущность всех явлений действительности, абсолютное начало. Так же, как воля человека определяет его поступки, так и действующая во всем мире всеобщая воля, воля предметов и явлений вызывает внешние события в мире, движение предметов, возникновение явлений. Окружающий мир по своей сущности есть реализация воли к жизни. Но согласно А. Шопенгауэру, все волевые акты бесцельны и имеют разрушительный характер, жизнь никчемна, стремление к счастью неосуществимо, так как жизнью управляет слепая, бесцельная воля к жизни.
Учение А.Шопенгауэра получило своеобразную разработку в ницшеанской теории власти. Однако, если позиция А. Шопенгауэра - это проповедь отказа от жизни путем отрицания воли к жизни, то концепция Ф.Ницше - это позиция бунтарского негативизма. В его теории важно не то, истинны или нет наши суждения, понятия, представления, а то, помогают ли они нам возвыситься над другими людьми, увеличивают ли нашу власть. Мир Ф. Ницше - это воля к власти, жизнь - это воля к власти, подчиненная воле к власти, есть “воля к созиданию”.
Иррационализм - философское учение по которому основные жизненные функции происходят без вмешательства интеллекта, а ум и сознание играют чисто техническую роль.
Видный представитель этого направления Шопенгауэр родился в состоятельной семье в Германии. Шопенгауэр исходит из того, что кантовском термина "явление" противопоставляет термин "представление", который охватывает все, что дано нам в чувственном восприятии. Мир существует только как представление. Материальный мир - не что иное, как мир явлений, и его изучает наука. Он считал, что научное миропонимание иллюзорное, классическая философия - "шарлатанство".
По мнению Шопенгауэра, ошибкой всех философов было то, что основным и первичным моментом души, т.е. внутренним, духовной жизнью человека они считали мышление и выдвигали его на первый план. Итак, объективному познанию противопоставляется иррациональное познание, которое вводит в недостижимый иным образом мир. Каждое понятие, мысль - лишь абстракция.
Основной чертой учения Шопенгауэра есть отделение воли от познания. Свобода первична, независимая от познания, которое является вторичным, независимым от воли. Каждый организм, в том числе и человеческая жизнь, является ничем иным, как раскрытием свободы. Каждый поступок эгоистичен: "Я" и "эгоизм" - это одно и то же, они тождественны: если исчезнет последний, не будет и первого. Шопенгауэр различает два вида эгоизма: один, который хочет собственного блага, и второй - гипертрофированный, злобный, который хочет чужого горя. Составной частью "трагической диалектики" Шопенгауэра является понятие вины Мировой Воли. Возникновение Вселенной и жизни в нем - это стихийно неосознанное, а затем осознанное грехопадения, и только частично оно оправдывается страданиями, которые выпали на долю тех, кто живет в мире. Выход мыслитель видит в том, что люди должны направить присущую им жизненную энергию как против самой этой энергии, так и против ее источника - Мировой Воли. Духовный аристократизм Ницше переходит в проповеди, "сверхчеловека", учение о жизни как иррациональное становления, порыв, волю. Основные его труды: "По ту сторону добра и зла", "Так сказал Заратустра", "Антихристианина". Центральным понятием ницшеанства является "воля к власти" как наиболее значительный критерий каждого типа поведения, каждого общественного явления. "Жизнь, - утверждает Ницше, - стремится к максимуму чувства власти". Если у Шопенгауэра Воля является основой бытия, то Ницше придает этому понятию социально-нравственного оттенка. "Воля к власти" - основа права сильного.
Это выше всех моральных, религиозных и иных нормативных установок. Для Ницше не существует понятия учителей и учеников. Он считает, что каждый должен идти своей дорогой, иначе он не создаст своего единственного жизни. Превращая в реальность чьи-то наставления и пророчества, идеи и теории, человек не может стать ничем иным, как рабом обстоятельств, доктрин и идеологий. С "воли к власти" Ницше выводит все основания морали. Он утверждает, что мораль определяющими понятиями которой являются понятия добра и зла, возникает как следствие чувства превосходства одних людей над другими. Ницше считает, что иудео-христианская мораль препятствует полному самовыражению человека, и поэтому необходимо провести переоценку ценностей с целью возрождения "морали господствующих", которая должна основываться на следующих принципах:
1) единственной безусловной ценностью является "ценность жизни",
2) существует естественная неравенство людей, связана с жизненными силами и "волей к власти",
3) сильный человек свободен от моральных обязательств и не связана никакими моральными обещаниями. Всем этим требованиям, согласно Ницше, соответствует субъект морали господствующих - "сверхчеловек". Это наиболее противоречивое понятие в этике Ницше. С одной стороны, эти люди в отношении друг к другу сдержанные, гордые, приятные. С другой стороны, в отношении "чужих" они не отличаются от зверей, потому освобождены от моральных обязательств и руководствуются в своих действиях инстинктами. Внешняя особенность "сверхчеловека" заключается в "врожденном благородстве", "аристократичности". Обладателем власти "сверхчеловек" становится не в силу врожденной принадлежности к определенному классу или состояния, а как избранник самой природы. Его "сверхчеловек" это гармоничный человек, в которой органично сочетаются физическое совершенство, высокие моральные и интеллектуальные качества. Однако не следует однозначно и ограниченно толковать учение Ницше, которому присуща необычайная широта культуры, честность, открытость, искренность морально-интеллектуального поиска, глубина мысли. В теории Ницше немало противоречий и выпадов против демократии, но Ницше не случайно опасался и презирал низменную человека, живущего какими-то догматами, традициями и жаждой власти, человека, маленькую и серую, слабую и трусливую, ибо хорошо понимал, что гибель и разрушение общества может привести именно такой человек, который получил власть и возможность управлять человеческими судьбами.
*Иррационализм отвергал логические связи в природе, восприятие окружающего мира как целостной и закономерной системы, критиковал диалектику Гегеля и саму идею развития.
Основная идея иррационализма заключается в том, что окружающий мир есть разрозненный хаос, не имеет целостности, внутренних закономерностей, законов развития, не подконтролен разуму и подчиняется другим движущим силам, например аффектам, воле.
Видным представителем иррационализма являлся Артур Шопенгауэр (1788 - 1860). В своем творчестве он выступал против диалектики и историзма Гегеля, призывал вернуться к кантианству и платонизму, а универсальным принципом своей философии провозгласил волюнтаризм, согласно которому главной движущей силой, определяющей все в окружающем мире является воля.
В своей книге "Мир как воля и представление" философ выводит логический закон достаточного основания. Согласно данному закону истинная философия должна исходить не из объекта (как материалисты), но и не из субъекта (как субъективные идеалисты), а только лишь из представления, которое является фактом сознания.
В свою очередь, представления (а не объективная действительность и не познающий субъект) делятся на объект и субъект. Именно в основе объекта представлений и лежит закон достаточного основания, который распадается на четыре самостоятельных закона:
закон бытия - для пространства и времени;
закон причинности - для материального мира;
закон логического основания - для познания;
закон мотивации для действий человека.
Таким образом, окружающий мир (представление объекта) сводится к бытию, причинности, логическому основанию и мотивации.
Представление субъекта не имеет такой сложной структуры. Сознание человека осуществляет познавательный процесс через представление субъекта путем:
Непосредственного познания;
Отвлеченного (рефлективного) познания;
Интуиции.
Центральным понятием философии Шопенгауэра является воля. Воля, по Шопенгауэру, - абсолютное начало, корень всего сущего, идеальная сила, способная определять все сущее и влиять на него. Воля также есть высший космический принцип, который лежит в основе мироздания.
Воля:
Лежит в основе сознания;
Является всеобщей сущностью вещей.
При объяснении воли как всеобщей сущности вещей Шопенгауэр опирается на кантианство, а именно на теорию Канта, в силу которой в сознании отражаются (аффицируются) лишь образы вещей окружающего мира, а их внутренняя сущность является неразрешенной загадкой ("вещью в себе").
Шопенгауэр использует данную теорию с позиций волюнтаризма:
Окружающий мир есть лишь мир представлений в сознании человека;
Сущность же мира, его вещей, явлений есть не "вещь в себе", а воля;
Мир явлений и мир сущности являются, соответственно, миром представлений и миром воли;
Точно так же, как воля человека определяет его поступки, так и действующая во всем мире всеобщая воля, воля предметов и явлений вызывает внешние события в мире, движение предметов, возникновение явлений;
Воля присуща не только живым организмам, но и неживой природе в виде "бессознательной", "дремлющей" воли;
Окружающий мир по своей сущности есть реализация воли.. Помимо проблемы воли Шопенгауэр рассматривает и иные
"насущные" философские проблемы - человеческой судьбы, свободы, необходимости, возможностей человека, счастья. В целом взгляд философа на данные проблемы носит пессимистический характер. Несмотря на то, что в основу человека и его сознания Шопенгауэр заложил волю, он не верит в возможность человека господствовать не только над природой, но и над собственной судьбой.
Судьба человека находится во всеобщем мировом хаосе вещей и явлений и подчиняется всеобщей необходимости. Воля отдельного человека слабее совокупной воли окружающего мира и подавляется ей. Шопенгауэр не верит в человеческое счастье.
Философия Шопенгауэра (его учение о четверояком законе достаточного основания, волюнтаризм, пессимизм и др.) была не понята и не принята многими из его современников и не имела большой популярности, однако она сыграла большую роль в развитии неклассической идеалистической философии (иррационализма, символизма, "философии жизни") и позитивизма. 4. Продолжателем философских традиций Шопенгауэра был Фридрих Ницше (1844 - 1900). Ницше считается основоположником родственной иррационализму "философии жизни".
Стержневым понятием данной философии является понятие жизни, которая понимается как мир в аспекте его данности познающему субъекту, единственная реальность, существующая для конкретного человека.
Цель философии, по Ницше, - помочь человеку максимально реализовать себя в жизни, приспособиться к окружающему миру.
В основе как жизни, так и окружающего мира лежит воля. Ницше выделяет несколько видов воли человека:
"воля к жизни";
Воля внутри самого человека ("внутренний стержень");
Неуправляемая, бессознательная воля - страсти, влечения, аффекты;
"воля к власти".
Последней разновидности воли - "воле к власти" - философ уделяет особое внимание. По Ницше, "воля к власти" в большей или меньшей степени присуща каждому человеку. По своей природе "воля к власти" близка к инстинкту самосохранения, является внешним выражением спрятанного внутри человека стремления к безопасности и движущей силой многих поступков человека. Также согласно Ницше каждый человек (как и государство) осознанно или неосознанно стремится к расширению своего "Я" во внешнем мире, экспансии "Я".
Философия Ницше (особенно ее главные идеи - высшей ценности для человека жизни, "воля к жизни", "воля к власти") была предшественницей ряда современных западных философских концепций, в основе которых лежат проблемы человека и его жизни - прагматизма, феноменологии, экзистенциализма и др.
. В 1901, через год после его смерти, П.Гастом с братьями Э. и А.Хорнэфферами была опубликована книга «Воля к власти», анонсированная как «главное произведение Ницше». Книга вышла как очередной, 15-й, том Собрания сочинений и должна была по первоначальному замыслу издателей быть продолжением предыдущих шести томов, объединенных общим рабочим заглавием «Неизданное» (с указанием времени возникновения и завершения публикуемого текста). Под давлением сестры философа и руководительницы архива, Элизабет Ферстер-Ницше, заглавием тома стало: «Воля к власти. Опыт переоценки всех ценностей (исследования и фрагменты)». Решение носило чисто прагматический характер, отвечающий общей мифотворческой стратегии архива представить публике Ницше в качестве систематика (вопреки его собственному афоризму из «Сумерек идолов»: «Я не доверяю всем систематикам и сторонюсь их. Воля к системе есть недостаток честности». – Собр. соч., т. 2. М., 1990, с. 560). В 1906 вышло 2-е, расширенное, издание под редакцией Э.Ферстер-Ницше и П.Гаста, которое и стало каноническим. Хотя уже тогда раздались первые предостерегающие голоса (Lamm Α. Friedrich Nietzsche und seine nachgelassenen «Lehren».– «Süddeutsche Monatshefte», 1906, September), однако лишь полвека спустя книга под заглавием «Воля к власти» перестала быть «главным философским произведением» Ницше и заново появилась в своей первоначальной аутентичной версии: в форме фрагментов и черновых набросков, не имеющих единства, кроме чисто хронологически выстроенных в публикациях материала из наследия 80-х гг. К.Шлехта, издавший в 1954–56 трехтомник Ницше (с демонтированной «Волей к власти» в 3-м томе), сопроводил его филологическим постскриптумом, целью которого было разоблачение фальшивки, состряпанной архивом, и упразднение мифа о «философской системе» Ницше. Издание Шлехты отличалось подчеркнуто негативным отношением не только к фальсификаторам, но и к самому философу, что, впрочем, было вполне естественным на фоне послевоенного ажиотажа вокруг «Ницше на скамье подсудимых в Нюрнберге». Чем оно по существу являлось, так это заменой одного, «героического», мифа другим, «антигероическим», своего рода запоздалым «рессентиментом» либерализма, воспользовавшимся удобным случаем, чтобы свести счеты с философом, опасность которого для «мира, прогресса и культуры» засвидетельствовали еще со времен 1-й мировой войны влиятельные политики Антанты (Bertram Ε. Nietzsche. Versuch einer Mythologie. Bonn, 1985, S. 375). Разгоревшаяся вокруг этого издания полемика (с резкой критикой выступили, в частности, Р.Панвиц и К.Левит) не повлияла, однако, на рецепцию этого нового мифа о Ницше. В издаваемом с 1967 критическом академическом издании Дж. Колли и М.Монтинари текст т.н. «Воли к власти» окончательно растворяется в протоколоподобных отрывках наследия (почти 9000 фрагментов на более чем 3200 страницах).Представленная в таком, развоплощенном, виде «Воля к власти» вполне отвечала стандартам послевоенной денацификации. Философ из бывшей ГДР, назвавший ее «гигантской клоакой» (Harich W. Revision des marxistischen Nietzsche-Bildes? – Sinn und Form, 1987, Sept./Okt., S. 1035), лишь в незамаскированной форме выразил господствовавшую тенденцию аккомодации Ницше в условиях эпохи Брехта.
Было бы неправомерно абсолютизировать филологическое значение случившегося в ущерб собственно философской стороне дела. «Написанное», пусть даже в форме фрагментов, явно просвечивает контурами некой строгой концепции («системы в афоризмах», по меткому определению К.Левита. – Lowith К. «Nietzsche», Sämtliche Schriften, Bd. 6. Stuttg., 1987, S. 111–123). В конце концов даже четыре книги, составляющие сфабрикованное целое («Европейский нигилизм», «Критика прежних высших ценностей», «Принцип нового полагания ценностей», «Воспитание и отбор»), лишь в точности воспроизводят один из многочисленных планов Ницше, датированный 17 марта 1887 (Nietzsche. Kritische Studienausgabe. Münch., 1988, Bd. 12, S. 318). Подводя итога филологической сенсации, можно в несколько парадоксальной форме утверждать, что фальшивой оказалась все-таки не сама книга, а лишь ее текст, точнее, компиляция составляющих ее текстов. Понятая так «Воля к власти» перестает лишь быть заглавием книги; но она при любых обстоятельствах остается главным понятием ницшевской философии. Впервые понятие «воля к власти» появляется во 2-й части книги «Так говорил Заратустра» (гл. «О самопреодолении»):
«Везде, где находил я живое, находил я и волю к власти». Несмотря на разрозненность, фрагменты наследия позволяют воссоздать достаточно последовательную картину целого. Воля к власти интерпретируется Ницше как принцип всего существующего. Подтверждения своей мысли он ищет в любом доступном ему материале анализа: в философии, религии, искусстве, психологии, политике, естествознании, вплоть до повседневного быта. Универсализация этого принципа повлекла за собой тотальную ревизию всего ценностного и значимого, в первую очередь религии, морали и философии (выбор заглавий предполагаемой книги колебался между «Воля к власти» и «Переоценка всех ценностей» с равным предпочтением обоих). Философия Ницше сводится в этом срезе к некой технике разоблачения с заранее расставленной ловушкой, которую позднее под разными индексами станут использовать психоаналитики. Разоблачаются здесь стремление к истине, познание, справедливость, добродетель, свобода, мир, покорность, терпимость, равенство, совесть, вера, чувство долга, любовь, идеалы всякого рода; все это суть «замаскированные виды воли к власти» (ibid., S. 275). Проблема начинается там, где эти маски узурпируют действительность или выдают себя за таковую. Всюду, где воля к власти оказывается слабее застилающих ее иллюзий, жизнь и культура находятся в упадке. Универсальное выражение упадка –нигилизм, генеалогия которого занимает центральное место во всей философии воли к власти. Истоки его Ницше обнаруживает у Сократа и особенно в христианстве, а начало расцвета датирует Новым временем: «Начиная с Коперника человек скатывается из центра в X» (ibid., S. 127). Человек переносит цель и назначение своего существования вовне, в некую «потусторонность», все равно: религиозную, моральную или естественно-научную, и долгое время верит в гарантированный смысл собственной жизни и смерти. Когда же приходит, наконец, время не верить, а знать, он, к ужасу своему, опознает потустороннее как «ничто» (в проекции религии как умершего Бога, в проекции морали как тартюфство добродетели, в проекции естествознания как «вечное возвращение одного и того же»). Воля к власти различает три типа нигилизма: пассивный, реактивный и собственно негативный (ср.: Deleuze G. Nietzsche et la philosophie. P., 1991, p. 169–170). В пассивном нигилизме «познать ничто» логически и фактически идентично с «ничего не познать», соответственно «хотеть ничто» равносильно «ничего не хотеть». Этому «европейскому буддизму» противопоставляется второй тип нигилизма, который уже не пассивен, но еще не активен, а именно реактивен. Он реагирует на жизненные ценности голым отрицанием их, не видя, что само его существование гарантировано наличием последних. Наконец, в третьей форме нигилизма востребованным оказывается само «ничто», которое обнаруживает себя уже не как отсутствие бытия, а как бытие отсутствия, в моральном аспекте: не как отсутствие ценности, а как ценность отсутствия, в первую очередь отсутствия самой морали. Акцент этого (третьего) нигилизма перемещен с «ничто» на «хотеть», так что даже там, где «нечего» хотеть, он «предпочитает скорее хотеть ничто, чем ничего не хотеть» (Ницше Ф. Собр. соч., т. 2, с. 524).
Нигилизм возникает и утверждается, когда речь идет о выборе между жизнью (= воля к власти) и ее культурными масками (= ценности), и выбор делается в пользу масок.
«Отчего восхождение нигилизма представляется отныне необходимым? Оттого, что в нем извлекают свои последние выводы именно наши прежние ценности; оттого, что нигилизм есть домысленная до конца логика наших великих ценностей и идеалов, – оттого, наконец, что мы должны пережить нигилизм, чтобы догадаться, чем, собственно, была ценность этих «ценностей»... Когда-нибудь нам понадобятся-таки новые ценности» (Kritische Studienausgabe, Bd. 13, S. 190). Преодолением нигилизма может стать, т.о., только переоценка всех ценностей и сотворение новых. Но переоценка и сотворение немыслимы без переоценщика и творца, на языке Ницше: «высшего человека», или «сверхчеловека». Если этот последний и ожидается, то отнюдь не в театрально-эсхатологической топике некоего deus ex machina, a в реалиях соответствующей педагогики. Характерен стиль описания, целью которого была как бы превентивная профилактика темы от всякого рода мистических, лирических или метафизических аберраций, судьбой же стали сплошные политические аберрации. Ницшевский «высший человек», «победитель Бога и Ничто» (Собр. соч., т. 2, с. 471), находится в компетенции не Откровения, а воспитания, причем не классически-гуманистического (Erziehung), а жесткодисципли-нарного (Zucht), которое Ницше в чисто дарвинистиче-ском пароксизме мысли потенцирует до Züchtung (выведение), так что воспитатель совмещает в себе функцию уже не только надзирателя, но и как бы человековода. «Высший человек» мыслится как некий Сизиф смысла в обессмысленном мире, больше того, в мире, бессмыслица которого повторяется без конца («вечное возвращение одного и того же»), но который самими этими повторами провоцирует творческую волю на столь же бесконечные акты смыслосозидательства.
Спектр рецепций ницшевской «воли к власти» в философии 20 в. колеблется в целом между политическими толкованиями в духе А.Боймлера и метафизическими эксегезами на манер М.Хайдеггера. Между тем в свете текстологических ревизий актуальным оказывается восстановление не только текстов, но и контекстов, именно: учитывание, наряду с написанным, также и стимулов, импульсов, побудительных мотивов ницшевской мысли. Философема воли к власти перемещается в этом свете в иное (возможно, менее героическое, но ничуть не менее трагическое) измерение, определяемое не пифагорейско-гностической традицией, к которой, по мнению некоторых исследователей, принадлежал философ «вечного возвращения», и менее историко-философскими медитациями вокруг Парменида или Гельдерлина, в которых должен был, по воле Хайдеггера, рассекречивать свою тайну философ «нигилизма», а миром современного естествознания. Характерен в этом отношении весь средний период творчества Ницше, от «Человеческого, слишком человеческого» до «Веселой науки»,· где естественно-научно ориентированный образ мыслей выступает в совершенно эксплицитной форме. Но даже и в произведениях последнего периода очевидна тенденция решать исконно метафизические проблемы с постоянным равнением на мир естествознания. (Среди заметок, датированных началом 1886, встречается даже набросок заглавия «Естественная история свободного ума» – сочетание невероятное, если учесть, что компетенция «естественной истории» распространялась на любую живность, но не на свободный ум, который традиционно всегда принадлежал к «неестественной истории».) Любопытно отметить в этой связи, что идея «вечного возвращения», которая, наряду с «нигилизмом» и «сверхчеловеком», является ключевой для всей ницшевской философии, была заимствована из «Курса философии» Дюринга. В личной библиотеке Ницше сохранился экземпляр этой книги со следами внимательного прочтения: «Позитивист Дюринг, формулируя мысль о «вечном возвращении», сразу же отвергает ее как абсурдную». Ницше подчеркивает пассаж, аттестует автора нелестным словцом и полностью перенимает идею (на это впервые указал Р.Штайнер, проработавший в молодые годы в архиве Ницше и изучивший не только рукописи покойного философа, но и замечания, сделанные им на полях прочитанных им книг. Steiner R. Die «sogenannte» Wiederkunft des Gleichen von Nietzsche, Gesamtausgabe. Dornach, 1989, S. 549–571). Если и не все решающие пункты философии воли к власти столь демонстративно обнаруживают свою естественно-научную подоплеку, то все они так или иначе обусловлены ею. В этом смысле Ницше не завершал западную метафизику, как бы обольстительно ни звучала эта формулировка, а бился мыслью в тенетах научного материализма. Философия воли к власти проистекала из того же источника, что и современная ей неокантианская философия; различными были лишь реакции обеих на мир науки и вытекающие отсюда судьбы. В одном случае речь шла о логически фундированной, объективной тенденции взять научность под строгий трансцендентально-философский контроль. В другом случае объективированным оказывалось отчаяние от научности, пришедшей на смену религии и не сумевшей поставить на место веры и морали (этих прежних масок воли к власти) ничего, кроме новой маски гордящегося собой агностицизма.
Литература:
1. Müller-Lauter W. Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht. – «Nietzsche-Studien» 3. В., 1974, S. 1–60;
2. Baeumler A. Der Wille als Macht. – Guzzoni A. (ed.). 90 Jahre philosophischer Nietzsche-Rezeption. Königstein, 1979, S. 35–56;
3. Heidegger M. Nietzsche: Der Wille zur Macht als Kunst, Gesamtausgabe, II. Abt., Bd. 43. Fr./M., 1985;
4. Idem. Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht als Erkenntnis.– Ibid., Bd. 47. Fr./M., 1989;
5. Eschebach J. Der Versehrte Maßstab. Versuch zu Nietzsches «Willen zur Macht» und seiner Rezeptionsgeschichte. Würzburg, 1990.
Почитать философов – значит показать как люди мыслили их мыслямидо них, как не мыслили при них, как мыслили после них, как мыслят их мыслями сегодня и, наконец, как мы сегодня мыслим их мыслями, которые высветились в их текстах только сейчас .
Так или иначе в представлении большинства образованных людей закрепилось мнение, что Фридрих Ницше был страстным проповедником идеи о том, что не столько интеллект создает волю, сколько воля создает интеллект. Причем не просто воля, а именно злая воля, воля к власти, к подчинению, к насилию. Именно стремление к господству и порождает культуру. Отсюда множество основополагающих для трагедии человеческого существования парадоксов: чтобы стать лучше – следует быть злее и более жестоким; жизнь, постигающая жизнь, в глубине своей темна и трагична; для того, чтобы жизнь утвердить – ее признанные формы следует отрицать и т.д. . Для исследователей же философского творчества Ницше представилось широкое поле всевозможных интерпретаций. Одни акцентировали свое внимание на "воле к власти" как сердцевине ницшеанской идеологии, в то время как другие предпринимают попытки смягчить вызывающее обычно осуждение положение философа: "Падающего – подтолкни", как-то "очеловечить варварское" в суждениях мыслителя и оградить его от обвинений в создании идеологии фашизма. Мартин Хайдеггер, творивший в середине XX века, в русле идей гуссерлианства создал философию "человека" как "наличного бытия", "вот-бытия" (Da - Sein) находящегося в "просвете Бытия". Основная его идея: утверждение "фактической наличности" человеческого бытия важнее которой ничего нет, несмотря на укорененность в Бытии . Человеческая сущность схватывается только в языке – это то единственное и отличное от других сущее, которое способно само поставить вопрос о бытии . Если Ницше – одна из центральных фигур в философии конца XIX века, то Хайдеггер по праву считается в мировой философской мысли XX века просто "философом века".
Сами по себе мысли обоих философов никогда не были новыми даже для их времени. С этой точки зрения "ницшеанство" и "хайдеггерианство" существовали задолго до Ницше и Хайдеггера, но не в той форме. Кричащие противоречия между требованиями бурлящей жизни и этикой давно волновали философов. Вся послегомеровская культура (включая Платона, но не Сократа) полна требований: усиливающееся с "прогрессом" господство посредственности, "серости", которое мешает росту значения аристократии, власти лучших; превзойти окружающих и презирать их; делать зло для достижения добра; прийти от философии цинизма к философии сознательной лжи и т.д. Искаженные сестрой Ницше – Фёрстер (если искажение было, конечно) идеи, подобранные в книге "Воля к власти", не так уж далеки от действительных идей (как показала история) "Капитала" Маркса. И там и тут рискованное воспламенение людей, требование немедленного действия, обращение к мощи, к силе, насилию и власти. У Ницше – больше в духовной жизни, у Маркса в "диктатуре пролетариата". Не лишены этого и идеи "национального социализма". Недаром Г.В.Плеханов обвинял В.И.Ленина, что его "окружают ницшеанцы". А идеи Хайдеггера? Требования: освободиться от "схоластики рационализма" в пользу "живой жизни"; пойти навстречу "подпольному человеку" Достоевского и понять миp исходя из его "наличного состояния"; перейти от воспевания Истины как знания к "вслушиванию" в Истину, как искусство и т.д. Все это было и до Ницше и Хайдеггера.
Историческое значение и роль обоих философов, следовательно, заключается не столько в создании "нового", сколько в определении специфического для их времени "узла идей", позволяющих людям найти "иное начало" при вопрошании о своем месте в мире. Конкретно это выразилось в том, что и Ницше и Хайдеггер по сути выступали против картезианских традиций в философии и оказались выдающимися представителями того философского течения, которое активно включилось в борьбу за "мировое влияние" в условиях преобладания и даже кажущегося господства рационализма. Оба мыслителя выступили против ведущих идей времени, предопределяя мышление людей будущего. В этом их действительная актуальность.
Философию Ницше невозможно понять без глубокого осмысливания трагедии удивительного, казалось бы, несоответствия между недостатком физического и духовного здоровья и пафосом утвердить для людей именно это здоровье. Немощь, сострадание к людям и предчувствие безумия оказались преобразованными в пафос жизненности и мощи, силы, насилия и жестокости. В сбалансированном единстве дионисийского и аполлонического начал постепенно начинает преобладать Дионис, хотя "в самый последний момент" можно увидеть возвращение к Аполлону . Одно дело – идеи, высказанные в "Рождении трагедии". Там провозглашается, что "музыка и трагический миф в одинаковой мере суть выражения дионисической способности народа и неотделимы друг от друга... При этом в сознании человеческого индивида... это дионисическое подполье мира может и должно выступать как раз лишь настолько, насколько оно может быть затем преодолено аполлонической просветляющей и преобразующей силой...” . Другое дело – мысли, появившиеся в "Ессе Номо" и переписке "Дионис против Распятого" . Здесь Ницше неожиданно превращается в "распявшего самого себя Диониса", или просто в "Распятого". Среди ключевых понятий ницшеанской философии: "нигилизм", "переоценка всех ценностей", "воля к мощи " (сужаемая обычно до понимания как “воли к власти”), "вечное возвращение того же самого" и "сверхчеловек" – каждое может быть взято за основу как определяющее целое. Философия Ницше двусмысленна, двойственна, амбивалентна – и в этом ее величие. Он поднял и осветил центральные проблемы духовной жизни людей, так что каждый мыслитель пытается "перетянуть его на свою сторону". Не Ницше мыслил мыслями фашизма и кoммунизмa, а наоборот, тоталитарные идеологии пытались приспособить его мысли к своему миропониманию, пытались "мыслить по-ницшеански".
Социальная философия Ницше исходит из протеста против жизни "простого смертного", подчиненной стадным инстинктам. Он упрекает старую добродетель справедливости в потакании слабым и провозглашает новую справедливость как волю жизненной силы к власти, которая не нуждается в посторонних "подпорках" и оправдывает сама себя. Воля к власти (мощи) – самая внутренняя сущность бытия, требующая “хотеть стать мощнее”, “расти”, а для этого “полагать ценности” и хотеть средств для их реализации. Вопрос о ценностях фундаментальней вопроса о достоверности. Мысли, приходящие на глиняных ногах, правят миром. Истина – это тот род неистребимых заблуждений, без которых определенный род живых существ не мог бы жить из-за страха. Истина – это лишь положение различных заблуждений по отношению друг к другу так, что одно заблуждение старше и глубже другого. Истина – не то, что нужно найти, а то, что нужно создать. Мерилом же наших сил служит то, в какой мере мы можем, не погибая от этого, признать необходимость ложных ценностей. Воля как центр силы из себя конструирует весь остальной мир и ценности. Ценности же – это условия сохранения и подъема сложных образований с относительной продолжительностью жизни внутри процесса становления. Чтобы не погибнуть перед истиной – нам остаются искусство и мифы. Человек, сущность которого "водится изнутри воли к власти" – сверхчеловек, устремленный в будущее. Тем самым сверхчувственное основание сверхчувственного мира сделалось бездейственным. "Бог мертв", его убили люди. В пафосе "ужасаиз-за этого" можно усмотреть возврат к поиску божественного Высшего начала .
Ф.Ницше многое предугадал и прежде всего опасность для "воли к власти" со стороны тысячелетних усилий метафизики по истолкованию бытия. Действительное назначение метафизической истины – это подменить "истиной бытия" именно "волю к власти", пошатнуть ее значимость. И здесь он был непримирим. Однако, Ницше не смог предвидеть, что созданная им элитарная и аристократическая философия “сверхчеловека” оказалась на практике наиболее пригодной для безликих "людей из толпы", которые, компенсируя свою слабость из-за неполноценности, обратились к насилию и имморализму. Подобно тому, как Нищие не понял, что жизнь упивающегося иллюзорным героизмом сверхчеловека по существу бесчеловечна, Маркс не смог предвидеть безжизненность человека, живущего в условиях отсутствия разнообразия и тотальной уравниловки. Вскрытая в "духе трагедии" жизни драма современной ему человеческой души предстала для Ф.Ницше как нечто постоянно требующее непрерывного творчества мифов, мифотворчества. "...Все мои сочинения суть рыболовные крючки; ...если ничего не ловилось, то это не моя вина. Не было рыбы..." .
Философия М.Хайдеггера также двойственна, двусмысленна, амбивалентна, как и философия Ф.Ницше, что, вероятно, и послужило причиной того, что именно Хайдеггер "заставил" философский мир относиться к Ницше серьезно, что именно Хайдеггер уловил в идеях Ницше одну из главных установок грядущего XX века: постановку вопроса о необходимости философии вообще (а не в каком бы то ни было виде) . Более того, осмысление философии Нищие Хайдеггером "пало" на серединный, переломный период его творчества (1936-1942). И хотя М.Хайдеггер постоянно подчеркивал, что между ранним и поздним Хайдеггером ("Хайдеггером I и Хайдеггером II ") нет принципиальной разницы , все же следует признать существенное влияние идей Ф.Ницше на философские установки "позднего" Хайдеггера. Вслед за Ницше, Хайдеггер, например, додумывает "до конца" основную идею нигилизма, ведущую к "убийству Бога"; показывает неизбежность для "отвергнувших Бога" прихода к "новому богу" из-за невозможности существовать для человека без посторонней поддержки; постоянно "вопрошает" себя и человечество о необходимости и, в то же время, невозможности "назвать" то, что оказалось "на месте Бога", терзающий человека ужас от этой невозможности. Само философское творчество М.Хайдеггера наглядно демонстрирует, какие идеи Ницше и каким образом работают в мыслях философов творивших после него в XX веке. Мы не говорим уже о других. Сказанное определяет не только философию Хайдеггера в целом, но и отдельные, в частности, интересующие нас в данном случае проблемы, поставленные мыслителем. Новизна и оригинальность идей, предложенных Хайдеггером, теперь уже не вызывает серьезных возражений, хотя самого философа такие сомнения посещали часто. "Видимо, борьба за сохранение традиции истощает нас, – признается он в письме к Блохманн от 27 июня 1926 года, – Создавать свое и охранять великое одновременно – превосходит силы человека... Из этого круга нет выхода – вот так и получается, что собственный труд кажется то важным, то вновь совершенно незначительным..." .
Согласно социальной философии М.Хайдеггера , "воля к мощи", или, более узко, "воля к власти", которой придавал столь большое значение Ф.Ницше, действовала в новоевропейском субъекте тайно уже с самого начала, но временно признавала над собой требование объективности, научной строгости и не объявляла себя единственным законом сущности. Лишь в последние десятилетия, в результате глубоких "метафизических" размышлений, выяснилось, что субъект, по сути, обеспечивает лишь самого себя. За субъектом все более решительно стала обнаруживаться "воля к власти", а содержанием “воли к власти” оказалась некая "воля к воле ". Соответственно, "воля к власти" – это всего лишь проявление более глубинного процесса: "воли к воле". "Воля к воле" – это такой, возникший в западноевропейской традиции, процесс, который уже не подвластен человеку и который предпочитает гибель отказу от самоутверждения, всё берет под свой учет и контроль .
М.Хайдеггер является создателем оригинальной концепции "наличного бытия", т.е. человеческого бытия, концепции "вот-бытия" (Da - Sein). Философствование следует начинать с вопроса о сущем, с человеческой реальности, которая только и может раскрыть сущее, а именно с феноменологической онтологии. Только через выяснение сущности человеческого бытия (Da - Sein) можно раскрыть сущность собственно бытия (Sein). Причем человек находится "в просвете бытия" и может, поэтому, или подняться к "высшему" или, не поняв смысла этого "просвета", попасть в ад. Истинным отношением человека к миру является озабоченность своей деятельностью, единством с миром, отношением к общественности, отчужденностью. Через заботу человеческое существо порабощает само себя, постоянно ставя перед собой все новые и новые цели, и именно в этом процессе порабощения пытается обосновать и укрепить свою свободу. Страх, с одной стороны, заставляет человека, отказываясь от своего истинного бытия, растворяться "в массе" (Man), а с другой – именно страх потерять себя и раствориться в анонимности общественного заставляют человека преодолеть одиночество и вернуться к "личностному существованию". Поскольку человек "виновен изначально", то только совесть позволяет ему осознать это. Совесть – это особый долг перед самим собой, отказ от неподлинного существования, что требует решимости, которая может привести человека к подлинному цельному самобытию, вырывая его из безличного существования. Любую решимость человека предвосхищает решимость особого рода: "бытия-к-смерти", которая может придать существованию смысл и позволяет рассеять всякое "мимолетное самосокрытие" .
В наше время высшее знание обращается не к Логосу, как в прежние времена, а к соединению "науки и магии". Естествознание ("научное мышление") обращено к сущему, между тем как философия ("мыслящее мышление") стремится проникнуть к смыслу бытия. Если до Ницше философы обычно делили мир на субъект и объект, то с возникновением "философии жизни" возникла традиция понимать человека как "бытие в себе", подлинность которого раскрывается в вопрошании, направленном на самого себя.Хайдеггер стремится преодолеть противопоставление субъективного и объективного, он за "нерасчлененное бытие ". Кантовская схема подведения явлений под схемы понятий рассудка отвергается Хайдеггером, а постоянно прогрессирующая рационализация ведет, по его мнению, в тупик, выход из которого в умении понять культуру личного мира души человека, погрузиться в субъективное переживание времени, в непридуманную человеческую жизнь с ее заботами и страстями, в человеческое сознание, в "бытие бытующего", поставить вопрос о значительности человеческой субъективности .
При ближайшем рассмотрении выясняется, что существуют два времени ; с одной стороны, человеческое, время человеческого бытия, первоначальное (соотнесенное с жизнью человека), а с другой, мировое время, время природы, производное от человечески-личного – безличное время. Проблема состоит в том, что человек одновременно находится в этих двух разных "временах". Время, по Хайдеггеру, не субъективно и именно из времени можно понять истинное бытие. Подлинное (человеческое, а не мировое) время конечно, а поэтому конечно и бытие. Со смертью человека исчезают и время и бытие. "Временность " – это связь времени с человеческим существованием. Сущность временности в обнаружении единства "экстатических состоянии человека", когда прошлое и будущее сливаются в настоящем .
Тем не менее будущее обладает приоритетом , поскольку для каждого человека очевидно существование в будущем смерти как завершения временности. В отличие от человеческого времени, в "абстрактном времени", в мировом и общественном, человек встречается с внутримировым сущим. Мировое время оказывается по Хайдеггеру ни субъективным, ни объективным, оно было "раньше". Исходя из прошлого можно понять лишь "механическую причинность", а "жизнь как органическое целое", сознание и историю – лишь исходя из будущего. Если объяснение с научной точки зрения, опираясь на прошлое, подводит итог и ставит перед собой какую-то цель, которую стремится достичь, то это заведомо ложный шаг. Ведь цель – это то, что лишь наступит в будущем. Цель не задается прошлым, а определяется каждый раз заново из самого грядущего. "Истинная истина" не замкнута (хотя и целостна), она – открытость бытия времени. Главное в истине – не то, что уже есть, а то , чего ей не хватает, что еще только наступит . Время всегда разомкнуто в будущее, которое и определяет направление изменения мира. Плюрализм истины и свобода человека состоят как раз в том, что существует необходимость каждый раз постигать будущее заново. А его неведомость делает мир бесконечным. Поэтому, по Хайдеггеру, время неотъемлемо от субъекта и исчезает вместе с ним. Время и есть бытие, а без него прекращается. Постичь бытие может лишь такое мышление, которое поймет "время как горизонт бытия" в единстве с "временем как бытийностью заботы", поймет время в единстве прошлого и настоящего, "временящихся из будущего", время как скрытую историю. Бытие не вещественно, как это мыслит человек, исходя из европейских традиций. Но бытие и не идея, не мысль. Бытие – это то, .что открывается в горизонте времени, что открыто времени, что исторично, плюралистично и трансцендентно. То что есть – лишь дано в бытии, а не само по себе бытие, которое как бы ускользает от определения. "Не то что бытие где-то существует само по себе и сверх того еще ускользает от рассмотрения. Нет, ускользание бытия как такового – это и есть само бытие" . Находясь "в просвете бытия", человек может не понять, где истина, а где заблуждение, где истинное время и "цель", а где ложное "абстрактно-мировое" время и серия "ложных целей". Европейский человек "заблудился", увлекшись "волей к власти" и стоящей за ней "волей к воле".
Как уже отмечалось, "воля к воле" – это такой процесс, который уже не подвластен человеку и который предпочитает гибель отказу от самоутверждения, все берет под контроль и свой учет. Обеспечивая каждый свой шаг развитием техники на основе научных методов покорения природы, “воля к воле” делает себя представительницей бытия, полностью вытесняя его собой. “Воля к воле” оказывается закрытой для любого события, которое было бы не ею же самой установлено. В практике нового человека безраздельно правит трансцендентное метафизическое начало “воли к власти” и “воли к воле”. Слепота метафизической мысли состоит как раз в том, что она никак не может в наступательной "воле к воле" узнать саму себя.
Мир становится не миром, поскольку Бытие, хотя и пребывает, но как таковое не правит в своем собственном "доме". Сущее, полагает Хайдеггер, перешло в "блуждающий способ существования, когда распространяется пустота, требующая одного единообразного порядка и обеспечения сущего" . Никакая акция, никакой активизм не может изменить состояние мира, потому что бытие как действенность и действие замыкает сущее от "раскрывающего со-бытия" (Ereignis). Даже страдание, противоположное действию, оказывается заодно с действием в той же самой метафизической сфере "воли к воле" и не в состоянии вывести за ее пределы. "Воля к воле" навязала возможному в качестве цели невозможное. Техника, поэтому, – идентична понятию законченной метафизики. Абсолютное единообразие человеческих масс под господством “воли к воле” делает ясной бессмысленность человеческого действия, возведенного в абсолют.
"Ни одно изменение не происходит без опережающего указывающего путеводства" ,– подчеркивает Хайдеггер. Это–"судьба"-"посылание", каковым для человека оказывается какое-нибудь "бытийное озарение", независимо от того, сумеет ли человек принять его как таковое или оградит себя от “раскрывающего со-бытия” (Ereignis) Бытия. В последнем случае, а именно, с "вытеснением судьбы" прекращается и история. Будущее становится материалом лишь для волевого планирования. "Но как сможет достичь нас какое-то путеводство, – завершает свои мысль Хайдеггер, – если не высветится со-бытие, которое призывая, требуя человека, озарит его существо, даст ему сбыться и в этом о-существлении выведет смертных на путь мыслящего, поэтического обитания на земле?" .
Итак, по новому взглянув на философию Ницше и заставив философов XX века относиться к нему серьезно, Хайдеггер сам стал во многом мыслить "по-ницщеански". Из развитой Хайдеггером концепции человеческого "вот-бытия", находящегося одновременно и в абстрактно-мировом времени как "горизонте бытия", и в подлинно человеческом времени как "бытийности заботы", с необходимостью следует возможность или уловить то, что можно уловить пребывая в "просвете бытия", или отгородить себя от этого "просвета", даже если вдруг произойдет какое-то "со-бытие", определяемое Бытием, "знамение". Забвение бытия и произошло из-за увлечения человечеством сначала "волей к власти", а затем и "всегда стоявшим за ней" более глубоким содержанием: "волей к воле" как самодостаточным и не имеющим истинной цели процессом, который со временем становится не подвластным человеку. Позволив вовлечь себя в этот процесс, человечество потеряло путь к "истине бытия" и оказалось в кризисной ситуации. Выйти из нее, вероятно, можно только распознав "открывающее человеку собственно бытие" некое "раскрывающее событие" (Ereignis).
В самом конце XX вела уже достаточно отчетливо стали видны результаты того "восстания масс", о котором Х.Ортега-и-Гассет писал в самом его начале. Огромное число людей и сегодня мыслит мыслями Ницше и Хайдеггера, сознательно или бессознательно ассимилируя из них "то, что подходит", переделывая в новом ключе как идеи "классиков", так и свои собственные в "их духе". Однако, скорее всего, "наизнанку", акцентируя внимание на достаточно поверхностных, второстепенных для классиков проблемах и оставляя в тени наиболее существенные, эпохальные. Идеи Ницше и Хайдеггера утилизируются и предстают в достаточно вульгарном виде.
К концу XX века наступило время, пользуясь словами Хайдеггера, “массового напора на сущее со стороны воли к власти”, когда человек делает все, чтобы стать господином всего стихийного, когда "пользование становится использованием, а расходование израсходованием... "Мировые войны" с их "тотальностью" суть уже следствие бытийной оставленности... это миро-войны, предварительная форма устранения различия между войной и миром... Появляются признаки последней оставленности бытием – провозглашение "идей" и "ценностей", потерянные метания призывов к "делу" и к непременной духовности... Это оказывается единственным способом, каким пристрастившийся к самому себе человек еще может спасти свою субъективность, взвинтив ее до сверхчеловечества... Недочеловечество и сверхчеловечество – одно и то же; они принадлежат друг другу... как животный "низ" и разумный "верх" неразрывно спарены до соответствия друг другу" . Сущее действительно как действенное, а в нашем сегодняшнем обществе как манипулирование всем тем, чем можно манипулировать. Нравственное негодование тех, кто еще не знает, что есть на самом деле, часто нацелено на произвол и властолюбие "вождей" – это самая фатальная форма их признания.
Борьба за власть распространяет и ускоряет идею первостепенности вопроса о власти, хотя борющиеся за власть не замечают, что являются лишь агентами власти. "Борьба между теми, кто у власти, и теми кто хочет власти, с обеих сторон есть борьба за власть. Повсюду определяющим оказывается сама же власть. Благодаря этой борьбе за власть принцип власти с обеих сторон возводится в принцип абсолютного господства власти. Одновременно, однако, здесь остается скрытым то одно, что эта власть стоит на службе у власти и угодна ей. Борьба за власть заранее уже подвластна власти. Воля к воле только уполномочивает эту борьбу. Власть же благодаря этой борьбе овладевает человеческими массами таким образом, что лишает людей возможности когда-либо вырваться на ее путях из забвения бытия. Борьба за власть неизбежно планетарна и как таковая по сути безысходна.., поскольку своею собственной силой вытеснена в историческинaуместное, в оставленность бытием" . Применительно к событиям нашего времени, сказанное трансформируется в тезис, что в условиях кризиса парламентской демократии и тоталитаризма все более и более отчетливо культивируется новое понимание сути бытия, в виде "вывернутого наизнанку" старого. Суть бытия все чаще и чаще понимается не столько в виде достаточно глубоко раскрытой "воли к воли " Хайдеггера или даже в виде проявления "воли к воле" с пафосом отстаиваемой "воли к власти" Ницше, сколько в виде их самой поверхностной разновидности "власти власти " как "властвования власти " ("власти к власти "). Усугубление кризиса "напряжения встречи планетарной техники и современного человека" приобретает формы как бы "закрывающие" пути выхода из него.
Через призму культивируемого сегодня (и, вероятно, господствующего) представления о сути человеческого (и нечеловеческого) бытия как "власти власти " по иному видится и сущность "воли к воле " Хайдеггера, а тем более сущность "воли к власти " Ницше. Перед нами выстраивается новый ряд понятий, сравнение которых требует осмысления. Современный человек также оказывается двойствен, амбивалентен, противоречив.
Да, и Ницше, и Хайдеггер выступали по сути против картезианской традиции западноевропейской философии и видели в рационализме не столько помощь, сколько помеху дальнейшему развитию человечества. Ницше предъявил этой традиции свои "пять нет", выступив против: чувства вины; скрытого христианства (перенесенного в музыку, в социализм); " XVIII века Руссо" с его "природой"; романтизма (в котором сходятся идеалы христианства и Руссо); и, наконец, против "преобладания стадных инстинктов". Хайдеггер, со своей стороны, утверждает, что "...не потому не веруют в Бога, что Бог как таковой утратил для них достоверность, а потому, что они сами отказались от возможности веровать и уже не могут искать Бога. Они больше не могут искать, потому что перестали думать... Мышление же начнется лишь тогда, когда мы постигнем уже, что возвеличивавшийся веками разум – это наупрямейшийся супостат мышления" . Современный человек также противоречив. Время "власти власти" заставляет его метаться между разумом и верой, рационализмом и мистикой, не поднимаясь, однако, как правило, до уровня рассуждений классиков. Старое не отвергается совсем, но и перестает осваиваться "за ненадобностью" в борьбе за власть.
Да, и Ницше, и Хайдеггер сумели рассмотреть "ужас" господства масс, будущего "усредненно-серой" посредственности и "грядущего хама". Но, если пафос Ницше сводился к праву прямого насилия со стороны сверхчеловека даже над "последним человеком", не понимающим неизбежности подчинения "року", то Хайдеггер сумел найти для "воли к власти" первое более глубокое содержание в виде "воли к воле". При потере перспективы развития современному человеку в условиях усиливающегося господства "властвования власти" ближе оказываются не "заумные рассуждения" Хайдеггера, а более простые рекомендации в "борьбе за власть" Ницше, если вообще всплывает потребность в обосновании своих поступков. Однако, ни Нищие, ни Хайдеггер не смогли предугадать всех последствий действий людей в новых условиях. В отличие от Ницше, уповавшего на ведущую роль сверхчеловека и презиравшего слабых, Хайдеггер увидел возможность "самовзвинчивания от страха потерять свою субъективность" недочеловека в "сверхчеловека" и некоторые негативные последствия этого, когда говорил о роли "вождизма" в становлении тоталитарных режимов. Но все же и он не смог предугадать последствий господства идей "власти власти", когда осуществлять их начинает "каждая кухарка", получившая эту власть.
Да, и Ницше, и Хайдеггер в том или ином виде оказались вовлеченными в идеологическую борьбу XX века, особенно по проблемам тоталитаризма. Однако, если Ницше мог быть лишь "перетрактован" , исходя из текущих потребностей национал-социализма и национал-коммунизма, то Хайдеггер исходя из своих внутренних убеждений (никогда от них не отказываясь) первоначально увидел "внутреннюю истинность и величие" национал-социализма в том, что он на первых порах своего развития, с его точки зрения, олицетворял собой необходимую для общества идеологию "встречи планетарной техники и современного человека". И это не случайно. Многие крупные умы искренне увлекались реально осуществившейся мощью тоталитарных режимов. Но быть последовательным приверженцем, тоталитаризма Хайдеггер просто не мог из-за исходных положений своей философии. Философия индивидуального человеческого "вот-бытия" несовместима с идеологией тоталитаризма (ни фашизма, ни коммунизма, в чем представители как той, так и другой быстро разобрались). Ключевое слово здесь для уточнения позиции Ницше и Хайдеггера – это слово "первоначально". Фашистские и коммунистические идеи действительно могут увлечь человеческую мысль только "первоначальными" своими призывами к "иному лучшему", только на первых этапах формирования реального движения, пока не стали очевидными последствия действий на основе таких идей, через процесс "власти власти" ввергающих человечество постепенно в варварство. От власти "тупеют", отмечал Ницше. "Я занялся исследованием Ницше при фашизме затем, чтобы показать несовместимость его идей с фашизмом, а тем самым направить мысль людей против идеологии тоталитаризма", – подчеркивал Хайдеггер .
Да, и Ницше, и Хайдеггер подняли на щит идею особой роли "языка-речи" для человека, к тому же еще поэтической речи. Развиваемые вслед за другими мыслителями, идеи о развертывании "трагедии человеческого духа" не столько в философии, сколько в музыке Рихарда Вагнера и поэзии вообще, лежат в основе ницшеанского философствования. Требование обратиться к вслушиванию в "речь-сказ" и создать "ухо", которое могло бы проникнуть через язык как "дом бытия" к самому бытию – характерно для позднего Хайдеггера. Но все это в периоды господства "воли к власти" и "воли к воле". Классики ощущали, но не смогли предугадать роль музыки, поэзии, "речи-сказа" и простого "пересказа"– интерпретации в манипулировании сознанием масс людей в самой примитивной форме "за" или "против" очередного интереса "власти власти", в условиях возникновения "четвертой власти" масс-медиа.
Таким образом, мыслями Ницше и Хайдеггера люди мыслили до них, после них и сегодня. Идеи "воли к власти" и "воли к воле" органически влияли и формировали идеи "власти власти". И наоборот, господствующие сегодня идеи "власти власти" ассимилируют идеи "воли к воле" и "воли к власти", культивируя (иногда "нейтрально", иногда искажая, а иногда даже открывая новые аспекты ) их в меру возможности приспособить к своим текущим интересам. Не более того. Время "власти власти" вряд ли нуждается в глубоких разработках философской мысли.
В результате рассмотрения некоторых идей обоих философов выявилось своеобразное противоречие между "пессимизмом" разума и достаточно уязвимым "оптимизмом" метафизики, указывающей на возможность лучшего. Однако, не менее уязвим и "оптимизм" научного рационализма, противопоставленный "пессимизму" якобы "умершей" метафизики. Все дело в том, что и как под этим понимать. Следует, вероятно, согласиться с Хайдеггером, что для выхода из глобального кризиса человечества наших дней недостаточно уповать на помощь со стороны "сверхчеловека", что без возникновения независимого от желания человечества "потрясающего со-бытия", идущего от Бытия – люди не перестроят свою жизнь. Но что это будет за событие? Вероятно что-то “человечески-онтологическое”, “объективно-субъективное”. В этом смысле тезис о том, что сознательно используя свои рациональные к нерациональные возможности, человечество из имеющегося налицо кризиса само никогда не выберется – оказывается не столько пессимизмом, сколько как раз оптимизмом, хотя и умеренным.
Галеви Д. Жизнь Фридриха Ницше. Новосибирск, 1992, С.136-204.
Хайдеггер М. Что значит мыслить? // Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. М., 1991, С.134-138.
Зайцева 3.Н. Мартин Хайдеггер: язык и время // Хайдеггер М. Разговор... С.172.
Свасьян К.А. Фридрих Ницше: мученик познания // Ницше Ф. Соч. в 2-х томах, T. I, М., 1990. С.25-34.
Ницше Ф. Рождение трагедии, или эллинство и пессимизм // Ницше Ф. Соч. в 2-х томах. T.I. М., 1990. С.25-34.
Ессе Hомо. Как становятся сами собой // Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах. - М., 1990.
Ницше Ф. Веселая наука // Ницше Ф. Сочинения в 2-х томах. T.I. М., 1990. С. 592-593.
Ницше Ф. Ессе Номо // Там же, С.754.
Михайлов А.Б. Предисловие к публикации // Хайдеггер М. Слова Ницше "Бог мертв" - "Вопр. философии", 1990, № 7, С.133-136.
Интервью М.Хайдеггера в журнале "Экспресс" // "Логос". Филос.-лит. журнал. М., 1991, № 1. С.54-55.
Михайлов И. Собрание писем из переписки Мартина Хайдеггера и Элизабет Блохманн // "Логос". Филос.-лит. журнал. М., 1992 (l), № 3. С.283.
Хайдеггер М. Преодоление метафизики // Философия Мартина Хайдеггера и современность. М., 1991. С. 214-221.
Heidegger M. Sein und Zeit. Zwolfe, unver. Auflage.Tubingen, 1972, S.180-190.
Heidegger M. Sein und Zeit..., S.191-230.
Ibid., S.404-427.
Heidegger M Der europaische Nihilismus. Pfullingen, 1967, S.251-252.
Хайдеггер М. Преодоление метафизики // Философия Мартина Хайдеггера и современность. М., 1991. С.222-224.
Там же. С.229.
Хайдеггер М. Преодоление метафизики//Философия Мартина Хайдеггера и современность. М., 1991. С.229-230.
Хайдеггер М. Преодоление метафизикя//Философия Мартина Хайдеггера и современность. М., 1991. С.225.
Хайдеггер М. Преодоление метафизики //Философия Мартина Хайдеггера и современность. М., 1991. С. 224.
Беседа сотрудников журнала "Шпигель" Р.Аугштайна и Г.Вольфа с Мартином Хайдеггером 23 сентября 1966 // Там же. - С. 241, 246-247.
ХайдеггерМ. Слова Ницше “Бог Мертв” / Вопр. философии. 1990. С.174.
Беседа сотрудников журнала "Шпигель"... // Философия Мартина Хайдеггера и современность. М., 1991. С. 241.
Государственный университет - Высшая школа экономики
Нижегородский филиал
Кафедра социально-гуманитарных наук
Эссе по дисциплине
Философия
«Ф. Ницше о сверхчеловеке и воле к власти.»
Выполнила:
Проверила: Коткова Н.А.
г. Н.Новгород
2008-2009 уч. Год
В современном мире с его постоянными метаниями в призывах «к делу» и к непременной духовности и одновременно с его жаждой власти огромное число людей мыслит подобно Ницше о сверхчеловеке и воле к власти, ассимилируя из них «то, что подходит», и переделывая в соответствии со своими потребностями. Однако, скорее всего, они акцентируют внимание на достаточно поверхностных, второстепенных для философа проблемах, оставляя в тени наиболее существенные эпохальные. Его идеи пре стают в достаточно вульгарном виде, что искажает как саму его философию, так процесс понимания между людьми. Поэтому в данном эссе мне хотелось бы рассмотреть идею Ницше о сверхчеловеке и воле к власти в ее оригинальном варианте.
«Я УЧУ ВАС О СВЕРХЧЕЛОВЕКЕ. ЧЕЛОВЕК ЕСТЬ НЕЧТО, ЧТО ДОЛЖНО ПРЕОДОЛЕТЬ. ЧТО СДЕЛАЛИ ВЫ, ДАБЫ ПРЕОДОЛЕТЬ ЕГО? ДОНЫНЕ ВСЕ СУЩЕСТВА СОЗДАВАЛИ НЕЧТО, ЧТО ВЫШЕ ИХ; ВЫ ЖЕ ХОТИТЕ СТАТЬ ОТЛИВОМ ЭТОЙ ВЕЛИКОЙ ВОЛНЫ И СКОРЕЕ ВЕРНУТЬСЯ К ЗВЕРЯМ, ЧЕМ ПРЕОДОЛЕТЬ ЧЕЛОВЕКА?» «СЛУШАЙТЕ, Я УЧУ ВАС О СВЕРХЧЕЛОВЕКЕ! СВЕРХЧЕЛОВЕК - СМЫСЛ ЗЕМЛИ. ПУСТЬ ЖЕ И ВОЛЯ ВАША СКАЖЕТ: ДА БУДЕТ СВЕРХЧЕЛОВЕК СМЫСЛОМ ЗЕМЛИ!» «ПОИСТИНЕ, ЧЕЛОВЕК - ЭТО ГРЯЗНЫЙ ПОТОК. НАДО БЫТЬ МОРЕМ, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ ЕГО В СЕБЯ И НЕ СТАТЬ НЕЧИСТЫМ. И ВОТ - Я УЧУ ВАС О СВЕРХЧЕЛОВЕКЕ: ОН - ЭТО МОРЕ, ГДЕ ПОТОНЕТ ПРЕЗРЕНИЕ ВАШЕ.» «ВНЕМЛИТЕ, Я УЧУ ВАС О СВЕРХЧЕЛОВЕКЕ: ОН - ТА МОЛНИЯ, ОН - ТО БЕЗУМИЕ!»
Идею сверхчеловека Ницше раскрывает как идею самоопределения человека. «Человек есть нечто, что должно превзойти». На этом пути он выделяет в каждом человеке дух верблюда, дух льва и дух ребенка. Свою задачу философ видит в том, чтобы призвать человека преодолеть в себе повиновение духа верблюда, с которым ассоциирует христианство. По мнению Ницше, христианство превращает человека в больного, стадного домашнего и слабого.
Преодолеть это можно, согласно его философии, лишь тогда, когда человек начнет осознавать, что все его формирование как личности протекало ранее без его понимания и участия.
С ранних лет обычный человек подчинен системе норм и ценностей, и лишь через осознание собственной несвободы он стремится пробудить в себе личную волю – волю к власти, волю к жизни, творческой и сознательной. Именно через это в человеке рождается дух и сила льва.
Провозглашенный Заратустрой тип высшего человека можно охарактеризовать следующими чертами:
1.Этот тип человека принадлежит аристократии. Для Ницше человек толпы никогда не станет сверхчеловеком.
2.Его ценностями выступает то «благородное», которое оказывается по ту сторону добра и зла (а, следовательно, - морали).
3.Для такого человека жизнь - есть постоянная борьба, ибо он в сущности своей человек войны.
4.В противовес любви к ближнему утверждается любовь к дальнему.
5.Смысл деятельности не в бесконечном и бесцельном труде, а в труде творческом, то есть в созидании. При этом созидание невозможно без разрушения старых ценностей и добродетелей. Чтобы стать созидающим придется подвергнуться страданиям и многим превращениям.
6.В противовес состраданию утверждение эгоизма. Необходимо прислушиваться к собственной самости, чтобы именно она реализовалась в созидании. Добродетели должны проистекать только из нее самой и ни в коей мере не могут быть внешними, заданными извне только тогда в них проявится подлинная воля человека, его желания и инстинкты. Этика сострадания как этика альтруизма - есть отречение от своих интересов, от себя, недоверие себе.
7.Высший тип человека признает такие добродетели, которые несут страдания и смерть. «Ты должен любить свои добродетели - ибо от них ты погибнешь». «Умри вовремя». «Глупец тот, кто остается жить. Необходимо постараться, чтобы жизнь закончилась быстрей». Стремящийся к сверхчеловеку не должен иметь удлиненную жизнь, не должен бесцельно волочить ее.
Ницше иллюстрирует фазы возвышения к сверхчеловеку образом взбирания в гору. Но дух тяжести давит на плечи всякого человека, кто желает взойти на этот пик, стремясь увлечь его вниз. Под духом тяжести Ницше понимает традиционную мораль, которая своим «долженствованием» сковывает человека, обращая его волю к власти обратно, внутрь его самого. Такой дух скрывается в каждом из нас, сковывая наши движения, когда мы идем наверх.
Вершиной самоопределения человека является фаза ребенка. Ребенок есть символ игры, новых начинаний и иллюзии. Ведь когда ребенок играет, он пользуется в игре самообманом и тем самым свободно создает иллюзии, в которых отражает подлинную действительность, а не подражает ей. Ребенок есть свободное сознание действительности, и то, во что играет ребенок, есть сама действительность.
Другой отличительной теорией Ницше, которая должна была способствовать объединению, систематизации и интеграции его философских идей, и которая должна была заменить всё то, что до сих пор считалось философией, и большинство из того, что котировалось как наука, является учение о воле к власти. Иными словами, это понятие представлялось ключом как к его собственной философии, так и к положению дел в мире.
Воля к власти представляет собой присущее всем живым существам свойство. И половой инстинкт, и потребность утолить голод, и любые другие возможные стремления есть не что иное, как формы воли к власти. Ницше осенило, что сексуальный контакт в первую очередь имеет своей целью вовсе не удовольствие или размножение, а обретение власти, могущества. Любовный акт – это борьба за власть, где любовные действия суть лишь средства для установления отношений господства и подчинения.
Воля к власти – это не то, чем мы располагаем, а то, что мы собой представляем на самом деле. Не только мы - суть воли к власти, но и все в человеческом и животном мире. Во всем мироздании нет ничего более элементарного и вообще ничего иного, чем это стремление и его разновидности.
Таким образом, совершенно ясно, что воля к власти – это основное понятие в философии Ницше, понятие, с помощью которого всё должно быть истолковано и к которому, в конце концов все должно быть сведено. Это метафизическое или, лучше сказать, онтологическое понятие, поскольку «воля к власти» является ответом Ницше на вопрос « Что есть то, что есть?».
Другое важное следствие, вытекающее из его теории воли к власти, заключено в тезисе, что счастье – это вовсе не та цель, за которую нам действительно стоит бороться.
Люди, как и всё остальное в мире, стремятся к власти. На этом пути они весьма преуспели, обуздав многие из стихийных сил и поэтапно оттеснив от власти все другие живые существа. Они определенно обладают внушительным количеством власти, однако это не имеет ничего общего со счастьем. Счастье, коль скоро оно вообще имеет значение, неотделимо от борьбы за власть. От удовольствия просто сознавать, что ты силен. «Последний человек», который рассуждает в терминах «мира» и счастья, рассуждает как существо несостоятельное. Не может быть никакого счастья без борьбы.
Банальное утверждение, что человек стремится к удовольствию и избегает страдания, неверно. Не только люди, но «значительная часть живых организмов» стремятся к увеличению могущества, а удовольствие или страдание суть лишь следствия этой «примитивной формы аффекта». Стремиться к могуществу означает стремиться к преодолению препятствий, и это на самом деле означает испытывать неудовольствие, поскольку любое препятствие для воли к власти воспринимается как таковое. Таким образом, неудовольствие есть не что иное, как «нормальный ингредиент всякого органического процесса». В соответствии с данной интерпретацией просто невозможно исключить неудовольствие, страдание из природы вещей. А удовольствие – это не что иное, как переживание при преодолении препятствий. Препятствия лишь стимулируют волю к власти и являются прелюдией к удовольствию.
Ницше был глубоко убежден, что воля к власти представляет собой универсальный принцип и его действие в той или иной форме можно обнаружить на каждой ступени существования.
В учении Ницше, как в любом серьезном нравственно-философском исследовании, есть много ценного для нашего времени. Прежде всего, это яркая критика мещанства. Никто до и после Ницше с такой прозорливостью не смог предвидеть всю опасность общества маленьких, серых, покорных людей. Ницше сумел рассмотреть ужас господства масс, будущего усредненно-серой посредственности. Но он не смог предугадать всех последствий действий людей в новых условиях господства идеи воли к власти, когда осуществлять ее начинает «каждая кухарка», получившая эту власть. Ницше не мог предвидеть, что созданная им элитарная и аристократическая фило офия сверхчеловека оказалась на практике наиболее пригодной для безликих «людей из толпы», которые, компенсируя свою слабость из-за неполноце ности, обратились к насилию и имморализму. Нищ е не понял, что жизнь упивающегося иллюзорн м героизмом сверхчеловека по существу бесчеловечна.
Философ гипертрофировал волю, особенно волю к власти, в широком смысле этого слова. Читая его работы, остро чувствуешь, как он «всласть описывает власть». Образ сверхчеловека - это культ «сильной личности», одержимой жаждой власти.
Ницше подчеркивает, что воля к власти – это воля к насилию, господству, и именно воли к власти нет в высших человеческих ценностях – в заповедях, в которых, наоборот, преобладают ценности деградации, нигилизма. А мысли, правящие миром, должны быть сильными, по утверждению Ницше. Против этого трудно возражать, хотя вряд ли это условие достаточно для правящих миром идей.
Я считаю, что у Ницше происходит невольная подмена цели и средства, так как если целью может быть жизнь, познание, творчество, то воля – это только инструмент, в том числе и воля к власти. В сообществе животных инстинктивным является стремление к выживанию, средством для чего может быть как доминирование, так и подчинение, то есть совершенно разное отношение к власти. Да и сама власть скорее понятие человеческого сообщества, а не зоологического. Уже поэтому принцип воли к власти нельзя считать универсальным, на чем настаивает Ницше. Применительно же к человеческому обществу и социальной жизни власть принадлежит к числу высших, нередко необъявленных, ценностей, но это скорее ценности второго уровня, инструментальные, так как выживание в социуме связано не только с властью, – это лишь один из механизмов. У воли к власти должны быть цель и вектор развития. Если это сверхчеловек, как представляет Ницше, то речь идет о выращивании касты власти с претензией на изменение природы такого человека, что для истории не ново. Но амбиции или претензии никогда не заменят сущности, которая формируется под воздействием установленных обществом норм и традиций.
Главной позитивной ценностью нравственного учения Ницше, без сомнения, является идея возвышения человека. Философа с полным правом можно было бы назвать исследователем антропологического метода в философии. В своих нравственных оценках он стремился идти от индивида. Причем сам индивид рассматривался им как бесконечно становящаяся ценность, как процесс, как неисчерпаемость. По Ницше, человечество - это целостность, проявляющаяся через различие. Но абсолютизация неординарности приводила Ницше к парадоксальным выводам. Впрочем, любая абсолютизация приводит к крайностям и в познании и, что печальнее всего, в социально - нравственной практике. Именно это и произошло с теорией о сверхчеловеке.
Так как каждый человек склонен к самосовершенствованию, препятствием которому он видит смерть, то идея сверхчеловека дала нам надежду на победу над смертью, и устранение тех препятствий, которые всегда мешали процессу совершенствования.
Нам важно не наличие сверхчеловека, а сама идея, иными словами сверхчеловеческий путь, которым идут многие люди, и наша задача, чтобы как можно больше людей выбрало именно этот путь, и как можно прямее и дальше шли по нему, потому что в конце нас ждет спасение от смерти.
Эта идея очень важна, но длительное время она находилась в забвении, и сейчас, благодаря увлечению учением Ницше, она вновь становится актуальной, и возникают такие заявления, как: «Я – сверхчеловек», «Мы – сверхчеловеки». Это дает надежду на то, что «сверхчеловеческий путь» будет не только теоретическим понятием, но также будет осуществляться на практике большим количеством людей.
Что касается недостатков учения о «сверхчеловеке», то они следующие: презрение к человечеству, которое является слабым и больным по сравнению со сверхчеловеком; языческий взгляд на самого сверхчеловека; присвоение заранее какого-то исключительного сверхчеловеческого знания себе единолично, а затем себе коллективно, как некому избранному меньшинству лучших, то есть более сильных, более одаренных, властительных натур, которым все позволено, так как их воля есть верховный закон для прочих,- вот очевидное заблуждение ницшеанства.
Однако Ницше не мог знать, что его аристократичное творение – сверхчеловек – будет удобной ширмой для «людей из толпы», безликих и слабых, неполноценных и ущемленных, и в силу этого склонных к насилию и имморализму, бесчеловечности и жестокости. Сверхчеловек оказался Нечеловеком, а не Богочеловеком. Впрочем, когда у людей ценности гуманизма заменяются на ценности нигилизма и зоологизма, в каких бы изысканных и аристократичных формах они ни выражались, рождение чудовищ неизбежно. Бог не умер – его просто попытлись заменить на идолов!
Но, несмотря на всю критику, российский философ В.С.Соловьев подчеркивает важность учения Ницше о «сверхчеловеке» и «сверхчеловеческом пути», которая заключается в том, что он заставил людей обратить внимание на столь существенные для них понятия, необходимые для воспитания в обществе полноценных личностей.
Интерес к Ницше не ослабевает уже второе столетие. И если для своих современников он скорее был пророком начавшегося духовного кризиса и грядущих социальных катастроф, потрясших западную цивилизацию в ХХ веке, то для нас, живущих в глобализованном мире, который строится по западному образцу, Ницше, возможно, является выразителем волевого начала цивилизации, внешне успешной и доминирующей, но изнутри пораженной безверием и нигилизмом, а значит, ослаблением воли. Философия Ницше неоднозначна и усиливает кристаллизацию понятий и ценностей. Цивилизация, на данный исторический момент задающая тон развитию всего мира, пытается осознать себя.
Список использованной литературы.
1. Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1.
2. Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 2.
3. В.С. Соловьев. Идея сверхчеловека.
4. Ф. Ницше. Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого. - М: Интербук,1990.
5. И.Т.Фролов. Введение в философию. – М.: Культурная революция, Республика,2007.
Ницше Ф. Соч.: В 2 т. М., 1990. Т. 1.-693с.