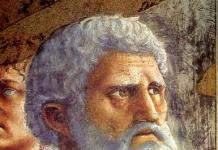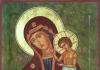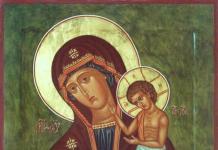По вопросу подлинных реликвий и подделок, которое вызвало много откликов. Мы хотели бы продолжить тему, пользуясь случаем принесения в Россию части мощей святого Николая. Скажите, что произошло за последние годы?
– Вряд ли мы в интервью можем коснуться всех аспектов этой темы. Реликвии, мощи – это священное наследие Церкви, постулирующее связь времен, материальные предметы, являющие торжество Духа, молчаливые свидетели Воскресения Христова. Это вечная и обширная тема.
Говоря же о прикладных аспектах, о деятельности Центра изучения православных святынь в Российском православном университете в Москве, Центра изучения христианских реликвий при Санкт-Петербургской митрополии, можно сказать, что это – реакция Церкви на изменение духовного баланса мира. В средние века за обладание священными реликвиями велись войны, проводились спецоперации, как, собственно, перенесение мощей святого Николая в Бари, тогда считалось, что святыни повышают статус и практически оправдывают существование городов и графств. Сегодня же постхристианская Европа отказывается от своих корней, закрываются церкви, монастыри, ликвидируются поместья старой аристократии. Из храмов освобождаются реликвии, многие из которых восходят ко временам даже грабежа Константинополя. Наряду с подлинными святынями в Россию хлынул поток фальшивых реликвий.
– Недавно «Правмир» интервью с протоиереем Андреем Бойцовым, который высказал предположение, что многие реликвии святого Николая – фальшивые. Как вы думаете, какой процент подлинных реликвий приходит в Россию?
– Насколько я помню, речь шла о реликвиях, именно приходящих в Россию в последние годы. Большинство древних православных святынь в результате агрессивной политики Запада оказались в Католической Церкви. Храмы в Германии и Испании ныне владеют сокровищами Константинополя и Византии. Но, несмотря на трагедию, случившуюся с Католической Церковью в XX веке, бережное отношение к реликвиям сохранилось. Подлинные реликвии, которые прошли сквозь века, достаточно хорошо документированы. Никаких реликвий в зип-пакетиках быть не может просто по определению. Если отделяются любые частицы мощей, то обязательно это подтверждается документом, опечатывается епископом. Без нарушения печати вскрыть мощевик невозможно.
Сотни владык, священников и мирян приносили в наши центры реликвии, полученные разными путями, когда же мы исследовали их происхождение, оказалось, что подавляющее большинство – это реликвии фальшивые с вполне явными признаками подделок. Человек в Амстердаме фабрикует фальшивые реликвии, делает фальшивые печати, фальшивые документы. Человек в Бари делает фальшивые реликвии с фальшивыми документами. Конкретные люди в Бельгии, во Франции, в Италии подделывают документы и реликварии. Так что с отцом Андреем я соглашусь на основе фактического материала.
«Реликварий», опечатанный с двух сторон имитацией печатей высокопоставленных иерархов Церкви с якобы частицей мощей святого Георгия Победоносца. Современная подделка.
С другой стороны, в Католической Церкви сохранилось много святынь, которые имеют гарантированно древнее происхождение. Переданные святой Еленой части Креста, мощи древних святых, такие артефакты, как титло, на котором римским воином было написано «Сей есть Иисус Назорей, Царь Иудейский» – все они сохранились. Последнюю, к слову, изучали специалисты-палеографы из Израиля и пришли к заключению, что она относится к I веку и Палестине, так как написание букв характерно именно для данного времени и места. В средние века эти реликвии очень хорошо соблюдались, конечно же никто ими не разбрасывался. Приходят ли они, их части в Россию? Редко, но да.
– Что мы можем сказать о подлинности древних реликвий, хранящихся на Афоне или в Католической Церкви?
– По большому счету, в подлинности многих святынь, таких как мощи древних святых, части Святого Креста на Афоне или в римском храме Санта-Кроче и так далее, никто не сомневается. Что касается частиц святынь, по документации можно проследить их пути. Допустим, есть документ, в котором утверждается, что в таком-то году викарий Римского Папы передал архиепископу Флоренции такую-то часть мощей святого Андрея Первозванного. Архиепископ Флоренции благословил, чтобы часть мощей была помещена в определенной церкви, и об этом также есть документ. Переданная часть опечатана печатью, она не вскрывалась.
В Риме, в Венеции действительно есть исторические реликвии христианства, и никто в этом не сомневается, кроме насмешников и врагов Церкви. На Афоне, да и во многих иных местах есть подлинные исторические святыни христианства. Какой смысл сомневаться в передаче реликвий, которые сопровождались документами высокопоставленных епископов, например, епископа Порфиренского в Ватикане? Он без сомнения имел доступ к подлинным святыням, а также определенный контроль над своими действиями.

Подлинный западный опечатанный реликварий с частицей мощей святого мученика Валентина, сопровожденный документом хранителя святынь Ватикана
Маркус, который производит реликвии в Штутгарте
– А приобрести реликвии православным можно? Выкупить?
– Каноническое право однозначно запрещает продажу реликвий под страхом отлучения от Католической Церкви. Однако храмы, где хранились реликвии, закрываются, а аристократы – хранители святынь умирают. Остаются маленькие лазейки. Как правило, это – переговоры. Рынка подлинных реликвий нет и быть не может. Допустим, есть одна организация в Европе, которая занимается ликвидацией храмов, и у них в продаже, бывает, появляются подлинные реликвии. Это факт. Но большинство реликвий, которые можно купить на барахолках в Берлине или Неаполе, в Париже или Милане, – в значительной степени это фальшивки.

Самодельный «реликварий» с фальшивым документом. Современная подделка
– Кто же их изготавливает? Что это за люди?
– Например, один человек по имени Маркус живет в Штутгарте. На современных пробирках он имитирует оттиски печатей, которые выдавали епископы в XVII–XIX веках, подписывая содержимое именами многоразличных святых и святынь. Иногда он использует даже струйный принтер для того, чтобы сделать подтверждающий «документ». Что он кладет внутрь – коровьи кости, свиные, человеческие, – не знаю. Но сделал он сотни таких «реликвий». И вот он продает их по 20-100-500 долларов.

Фальшивые печати якобы высокопоставленного иерарха. Современная подделка
Наш сотрудник разговаривал с ним. Тот сказал, что выкупил имущество католического монастыря. Мы проверили с разных сторон, информация не подтвердилась. Антикварам он знаком по псевдониму All-about-tea и «rheinischekunst».
О другом подобном мастере известно, что это – профессор из Бари. Он подделывает и продает реликвии антикварам, и его подчерк мы уже знаем. Он делает и фальшивые документы. В интернете он торгует под псевдонимом Marystar2012. Некоторые из его фальшивок есть в нашем собрании фальшивых реликвий в РПУ. Сделано бывает иногда на хорошем уровне. В Россию он продал достаточно много.
Иной человек – Ральф Напирский – является епископом-самозванцем. Он продает сотни реликвий, сопровождая их своими документами. Вот только такого епископа в Католической Церкви нет.
Еще один человек написал нашим друзьям-священникам, представился помощником архимандрита из Греции и предложил мощи святых из этой страны. Вроде бы за бесплатно. Но когда дошло до дела, он сказал: заплатите за привоз, хотя бы 500 евро. В графе получателя денег оказался гражданин Израиля, живущий в Греции. Никак с Церковью Греции не связанный.

Фальшивый документ, сопровождающий реликвию. Современная подделка
Про случай продажи греческим дьяконом выкопанных на кладбище костей я уже «Правмиру».
Находятся и действующие священники-аферисты в Католической Церкви. В Санкт-Петербургской духовной академии немецкий исследователь реликвий рассказал об истории, когда не так давно римский католический священник стал продавать реликвии разных святых. Какую человек хочет реликвию, такую он был готов продать. Но как только попытались проверить добросовестность человека – оказалось, что предоставленная священником – торговцем мощами информация ложная. Недавно стало известно, что Ватикан сослал священника в провинцию, узнав о его художествах. Другой человек, иподьякон на севере Италии также недорого продавал любые мощи. В ответ на запрос епископ той провинции прислал ответ – «простите, это все недоразумение».
Таких случаев, увы, много. Часта ситуация, когда приходит батюшка из Саратова и говорит: «Я в Риме был, купил мощи святого Петра. Посмотрите, пожалуйста». Но мы уже сталкивались с таким и спрашиваем сразу: «Куплено за 200 долларов у такого-то человека, в таком-то магазине?» Это фальшивка.
Фальшивые святыни привозят и «от греков», и «от латин». Приезжают люди, привозят «мощи с Корфу», «мощи из Бари». А на Корфу сообщают, что мощи святого Спиридона никому вообще не передавали, и в Бари никому не давали мощи святого Николая.
У меня иногда создается впечатление, что за некоторыми торговцами фальшивыми реликвиями стоят западные спецслужбы для того, чтобы скомпрометировать церковное возрождение в России, и я полагаю, что это уже становится вопросом национальной безопасности.
– Разве нельзя привлечь мошенников к ответственности?
– Один знакомый бизнесмен, который купил для храма несколько «реликвий» на приличную сумму, пытался возбудить дело против продавца фальшивок на Западе, но чем все кончилось, я не знаю.
– Настоятель или прихожане могут сами понять, подделка у них в храме или нет?
– Человек, знающий о происхождении реликвии, знает много, иногда всё. Думаю, что нам не стоит решать эти вопросы за других. Понятно, что когда священники получают реликвии, имеющие непонятное или сомнительное происхождение, и в силу каких-то второстепенных обстоятельств, может быть выгоды или нежелания обидеть спонсора, потратившего деньги на приобретение «святыни», допускают поклонение возможным фальшивкам – это, конечно, глубоко неправильно. Пресекать подобные случаи – ответственность священноначалия.
Исследовать подробно?

Михаил Артеев перед копией Туринской плащаницы. Фото Марии Темновой
– В православных храмах находятся мощи древних святых, в том числе святителя Николая, насколько они подлинные?
– Я не знаю. Мы фокусируемся на реликвиях, приходящих в последние годы. Отделялись ли частицы от мощей святого Николая? Да, отделялись. В основном брались от той части, что находится в Венеции. Ведь там сохраняется множество маленьких костных фрагментов. В свое время и в Бари отделялись мощи – для Ватикана. Если принесенные святыни исторически достоверны – они подлинны.
Нам довелось сопровождать принесение нескольких небольших частиц мощей святого Николая. В этих случаях мы знаем историю, откуда эти частицы. Одна частица из закрытого храма в пригороде Рима, сопровожденная документом викария Папы, другая из внутренней часовни монашеского ордена с документами епископа Порфиренского, хранителя святынь Ватикана. Иная реликвия святого Николая происходит из Бельгии, из закрытого храма. Еще одна реликвия – из закрытого храма в Генуе, с документами архиепископа Генуэзского. Это все реликвии из закрытых храмов, их происхождение ясно и прозрачно.
Или реликвия, которую привозили в храм на Новой площади трудами игумена Петра (Еремеева) – в древнем реликварии, из часовни римского монсеньора из известной фамилии. Речь идет о частичках в три-десять миллиметров, в силу ясности происхождения в перечисленных случаях нет никакой необходимости сомневаться в их исторической подлинности.
В Сретенском монастыре находится частица мощей святого Николая, которую мы сопровождали. Я лично присутствовал, когда вскрывался опечатанный реликварий с древней пергаментной надписью. Но таких вот опечатанных частиц, у которых есть достоверная история, на общем фоне буквально единицы. Я видел сотни якобы «реликвий» святого Николая, которые продаются на барахолках. Получить какие-то мощи проблем нет, 100-300 долларов, и ты – обладатель. Одна проблема – они фальшивые. А насчет исторически подлинных – другая история, их мало, отдавать их не торопятся, а получить их много желающих, нужно вести переговоры.

Ковчег с частицами мощей шести святителей Церкви, переданный Санкт-Петербургской Духовной Академии фондом «Священное наследие»
– Проводятся ли при подтверждении подлинности мощей анализы ДНК, углеводородный анализ и прочие исследования такого плана?
– Подлинные реликвии сохранены, опечатаны. Подлинные реликвии передаются под документы. Они не появляются ниоткуда. Мы все знаем, что мощи святого Николая хранятся в Бари, мы все знаем, что мощи святого Вонифатия хранятся в базилике на Авентинском холме, мы знаем, что Святой Крест сохраняется в базилике Санта-Кроче, или в церкви Санта-Мария-Маджоре. В XVIII веке частица мощей святого Вонифатия была передана в Турне или иная в Брюгге. Сейчас храм в Бельгии закрывается, и скоро мы получаем с документами часть мощей святого Вонифатия – для храма в Петербурге. При условиях исчерпывающей документации есть ли смысл сомневаться в подлинности мощей?
Некоторые говорят: «А вы вообще уверены, что в Бари покоятся подлинные мощи святого Николая?» Конечно же, можно сомневаться во всей церковной истории, в обретении святой Еленой Животворящего Креста, в обретении церковью мощей Иоанна Предтечи. Но это не наш, это нецерковный путь.
У анализов есть и деструктивная сторона. Многие методы исследований предполагают уничтожение части материала. В случае святынь это неприемлемо.
Особенные анализы имеют смысл в редких случаях. Болгары в развалинах монастыря нашли глиняный сосуд, на котором было написано: «Мощи святого Иоанна Предтечи». В результате исследований оказалось, что это действительно древний мощевик, спрятанный во время пертурбаций истории. Об этом писали мировые СМИ.
В большинстве случаев за святынями присматривали достаточно хорошо. Система хранения и учета реликвий на Западе была весьма четкой, да и в ХХ веке Католическая Церковь сделала огромную работу для того, чтобы убрать сомнительные реликвии из церковного оборота.
Но к ученым священники все же обращались. В начале «нулевых» на конференции в Падуе анатомы изучили два черепа и пришли к выводу, что мощам святого Луки, которые находятся в этом городе, соответствует череп из Праги. В результате сомнительная глава из Рима, которая по ошибке приписывалась святому Луке, была убрана в музей.
Исследовались и мощи святого Николая, и было подтверждено, что в Венеции действительно находится недостающая в Бари часть мощей святого. Это совпадает с церковным преданием. В истории случались мутные периоды, темные времена. И какие-то неприятности, и нестыковки могли быть. Но это не правило, это исключения. Недавно в Европе я наблюдал одну древнюю святыню, о привозе которой в Россию мы сейчас ведем переговоры. Так там сохраняется пачка документов в пять сантиметров толщиной обо всем историческом пути ее.
Еще пример. Один белорусский благотворитель в Неаполе сделал пожертвование епископу на содержание храма. В ответ на вопрос: «Как мне вас отблагодарить?» он попросил по возможности подарить в белорусский храм часть мощей святого Иануария. По прошествии времени епископ отделил часть мощей, положил их в ковчег, опечатал, выписал соответствующий документ. Все, история понятна. Здесь нет вопросов.

Лекция Михаила Артеева в Санкт-Петербургской Духовной Академии о фальсификации христианских святынь
– Вы говорите, что подлинных, вновь привезенных частиц мощей не так много. Как быть с антиминсами в только что построенных храмах?
– Совсем не вижу здесь проблемы. В антиминс кладется крохотный кусочек мощей из достоверных реликвий Православной Церкви.
– Вы сопровождали привоз подлинных реликвий в Православную Церковь? Куда? Откуда они?
– Мы следуем принципам, о которых я сказал. Это должны быть документированные и исторически достоверные святыни. За каждой из них стояли месяцы переговоров и иногда дополнительные исследования. Политика предельной документированности и прозрачности сопутствует всем нашим проектам. Если мы дарим храму святыню – вместе с копиями древних документов передается документ православного епископа, опечатавшего святыню после переложения. Источники, как я сказал, простые – закрытые храмы, монастыри, часовни.
Недавно мы подарили небольшую часть мощей святого Николая в Белоруссию. В ковчеге и мощевике, сделанном мастерами фонда «Священное наследие», передали владыке Павлу (митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси. – Ред.) . Он же распорядился передать мощевик в церковь Духовной академии. Некоторое время назад после месяцев переговоров часть мощей святого Николая была привезена и передана в Сретенский монастырь владыке Тихону (Шевкунову).

Архимандрит (ныне епископ) Тихон (Шевкунов) выносит переданный ему ларец с частицей мощей святителя Николая Чудотворца для поклонения верующим
В храм Патриаршего подворья в Бари было препровождено семь частиц мощей древних святых. Святейший Патриарх Кирилл передал Высоко-Петровскому монастырю привезенную нами часть Святого Креста. Владыке Амвросию был передан для храма Санкт-Петербургской духовной академии ковчег с частицами мощей шести святых отцов Церкви, почитаемых как богословов: святителей Василия Великого, Григория Богослова, Иоанна Златоуста, Амвросия Медиоланского, блаженных Августина, епископа Гиппонского, и Иеронима Стридонского. Но все это только часть нашей работы.

Архиепископ Амвросий (Ермаков) первый раз выносит ковчег с мощами шести святителей Церкви для поклонения
– Вы столько видели, как святынь, так и подделок, не возникло «профессионального выгорания», когда святыня воспринимается как что-то заурядное?
– Нет. Подлинные святыни – это спутники воскресения. Им сопутствует вечная весна. Да и чудеса. Когда мне рассказывают о чуде, обычно я сразу начинаю говорить: «Давайте подумаем, как это объясняется естественными причинами». Но есть, например, десятки свидетелей, которые видели, как у меня за два дня зажил палец после приложения к мощам святого Григория Чудотворца. И таких историй вокруг – множество. То, что происходит с людьми у подлинных реликвий – вопрос отдельный. Люди, совсем не склонные к эмоциям, часто – скептики по жизни, уходят от святынь со слезами на глазах, или священники, которые уже давно в Церкви, для которых вроде бы многое могло стать привычным, говорят: «А можно еще остаться? Уходить не хочется». Подлинные святыни вокруг себя распространяют благодать Святого Духа. И это чувствуется всеми. Хочется сказать, как на горе Фавор: «Господи! хорошо нам здесь быть» (Мф. 17:4).
Понятно, что человек, допустим, находится в каком-то тяжелом грехе или отрекся от веры, у него будет другое отношение. Иногда и озлобление. Но когда человек хоть как-то к Богу устремлен, он воспринимает святыню как радость. А от радости и любви не устаешь.

Молебен перед подлинной частицец Животворящего Креста, переданной фондом «Священное насление» Патриаршему подворью святителя Николая Чудотворца в г. Бари, Италия
Агентурная работа
– Фонд «Священное наследие» – какие у него задачи?
– Поддержка всего спектра просветительских и исследовательских инициатив в сфере христианских святынь. Поддержка поиска в закрывающихся храмах и монастырях Запада, в часовнях аристократических семейств православных святынь, чья подлинность документирована и сомнения по исследовании не возникают. Миссия – препровождать их, дарить верующим в православные храмы. Мы укрепляем свои силы, чтобы вывезенные в свое время в Европу с Востока подлинные христианские святыни, ставшие невостребованными на современном Западе, направлялись в Россию, а не в другие страны, как происходит сейчас.

Ректор СПбДА, архиепископ Амвросий (Ермаков) благословляет верующих распятием 18 века с частицей Животворящего Креста
Фонд имеет особое попечение над санкт-петербургским храмом святого Серафима Петроградского, для которого уже собрано и собирается много документированных древних православных святынь. Насколько я понимаю, это единственный храм в России, где каждая святыня исчерпывающе документирована. По словам председателя попечительского совета фонда Владислава Жуковича, «без святынь, без духовной основы – нация духовно умирает. Почитание святынь – это вопрос выживания и крепости России, будущего наших детей».
Символ фонда «Священное наследие» – под животворящим осенением Святого Креста, окруженная омофором Покрова Богоматери в листьях дуба и лавра – в силе и славе, историческая Держава Российской империи как образ нашей великой страны, и сегодня остающейся островком мира и света в стремительно деградирующем духовно и культурно мире.
Многократно Церковь празднует события, связанные со священными реликвиями: Воздвижение Креста Господня, обретение мощей Иоанна Предтечи, Положение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне и так далее. Люди привычно празднуют, но многие не знают, что святыни эти вполне историчны и сохранились до нашего времени, как следы Бога и святых на земле. Здесь нужно просвещение.

Ковчег с частицами Покрова И Ризы Пресвятой Богородицы был принесен в Покровский храм РПУ. Фото Марии Темновой
– Ваши планы? Какие реликвии вы исследуете, какие собираетесь привезти?
– Одновременно мы ведем много переговоров. Как правило, это древние православные святыни. Не хотелось бы говорить заранее, но в ряде случаев это беспрецедентные за всю историю Русской Церкви, уникальные святыни. За последнее столетие многие святыни Русской Православной Церкви пропали. Даже почитаемые в общецерковном масштабе гатчинские реликвии, полученные императором Павлом I от Мальтийского ордена – десница святого Иоанна Предтечи и частица Святого Креста, – находятся в Черногории и назад не вернутся. Но если нельзя вернуть гатчинские святыни, то привезти в Россию частицы Святого Креста и мощей святого Иоанна, хранящиеся в семье потомков бывшего высокопоставленного офицера Мальтийского ордена и имеющие то же происхождение – можно. Переговоры об этом и подобные тому сейчас ведутся.
– А как вы узнаете, откуда можно получить реликвии?
– Это кропотливая «агентурная» и дипломатическая работа. В ней нам помогают как наши соотечественники и православные священники за рубежом, так и друзья из Католической Церкви.
– Чтобы подытожить: для чего все-таки нужна работа центров изучения православных святынь?
– Все просто. Мы любим нашу Родину. Мы любим нашу Церковь. Подлинные христианские реликвии, которые в предыдущие века в Россию попасть не могли, должны оказаться в России. А фальшивые реликвии не должны оказаться в России.
В Европе мы постоянно сталкиваемся с эмиссарами богатых греков из США, они «охотятся» за подлинными реликвиями. Повторяю, представители Католической Церкви не имеют права продавать святыни. Обычно разговор строится так: «Знаете, мы бы хотели получить от вас подарок, такую-то реликвию, а сами хотели вам помочь – ремонт, или печатную линию новую купить». То есть переговоры и еще раз переговоры. Греки в этом смысле – для нас пример стремлений привезти в свой храм святыни. Святыни должны быть там, где их почитают.
Пример нам показывает прежде всего Святейший Патриарх Кирилл, который договорился о принесении части мощей святого Николая Чудотворца в Россию. Пример нам показывают и другие замечательные люди, как Константин Малофеев, которые поддерживали проекты по принесению святынь в Россию.

Святейший Патриарх Кирилл торжественно передает Высоко-Петровскому монастырю распятие с частицей Животворящего Креста
Ведь святыни приходят, и с ними Москва и Петербург, Ростов и Воронеж обращаются в рай, святыни уходят и города превращаются в ад, который уже сегодня мы видим на улицах Роттердама и в предместьях Парижа.
Игумения Елисавета (Жегалова), монахиня Анна (Клыгина)
В этом году будет 25 лет, как в полуразрушенном корпусе, примыкавшем к храму святых апостолов Петра и Павла древней Свято-Троицкой Стефано-Махрищской обители, по благословению правящего архиерея Владимирской епархии владыки Евлогия (Смирнова) поселились три первые насельницы. Поначалу это был скит Александровского Свято-Успенского женского монастыря, с 1995 года ставший самостоятельным монастырем. А в 2004 году монастырь получил статус ставропигиального. Как вспоминается начало пути, который привел к рождению крепкой монашеской семьи в одном из самых на сегодняшний день благоустроенных обителей России? Живая история в лицах предстает перед нами из рассказов его настоятельницы игумении Елисаветы и монахини Анны, несущей послушание казначеи.
Матушка, известно, что Вы долгое время подвизались в Пюхтицком Свято-Успенском ставропигиальном женском монастыре в Эстонии, но когда начал разваливаться Советский Союз, когда начало рушиться наше государство, то вернулись в Россию. Здесь стали насельницей возрождающегося Свято-Успенского монастыря в городе Александрове. Наверное, первое впечатление от увиденного в селе Махра на месте древнего мужского монастыря было гнетущим?

Скажу, о чем я подумала, увидев руины монастыря, основанного в XIV веке преподобным Стефаном Махрищским по благословению святителя Алексия, митрополита Московского. За минувшие века монастырь переживал периоды расцвета и упадка. Всякое было. Однако в годы советской власти он оказался настолько разрушенным, так был осквернен людьми без Бога в душе, что в голове пронеслось: потребуются многие десятилетия и неимоверные усилия, чтобы вернуть его к жизни. И еще одна сочувственная мысль вспыхнула: «Несчастный тот настоятель, которого пришлют возрождать обитель. Практически с нуля!» Мы, то есть несколько сестер из Александрова, приехали в Махру с владыкой Евлогием. Посмотрели, погоревали и уехали. Владыка – во Владимир, сестры – в Александров. А через несколько дней меня вдруг назначают сюда старшей монахиней! Все столетия вплоть до революции монастырь являлся мужским, теперь из-за малочисленности братии в возрождающихся православных обителях было решено возобновить его как женский скит. И вот я с двумя сестрами в конце октября прибыла в эту разруху. На территории находился единственный жилой корпус (бывшие архимандритские покои), в котором базировался пионерский лагерь Северного пароходства. Детей из Мурманска привозили лишь на лето. Поскольку их осенью не было, директор лагеря разрешил нам там поселиться. Мы заверили его, что мешать никому не будем. Директор растрогался и подарил владыке Евлогию старую монастырскую икону преподобного Стефана Махрищского, попавшую к нему каким-то образом. В этот момент преподобный как бы вернулся в обитель.
Что сестрам-первопроходцам оказалось под силу? С чего начали?
Перво-наперво стали восстанавливать корпус с трапезной внизу, кельями наверху и отдельным помещением – жильем для священника. И крохотный Петропавловский храм, сначала превращенный в спортивный зал, затем со временем оказавшийся без окон и дверей, без отопления. Два месяца мы ходили молиться в городской храм в Карабаново. Шли шесть километров пешком, в резиновых сапогах, в телогрейках, стараясь не обращать внимание на осенне-зимнее ненастье. Эти два месяца ушли у нас на восстановление храма, в котором пришлось тогда жить. 30 декабря храм освятили, и как начались в нем службы в предпоследний день 1993 года, так богослужения и совершаются в монастыре каждый день. Никогда они больше не прерывались… Сама я очень люблю клиросное послушание, люблю хор, но нередко с грустью думала, что в этой Владимирской глуши уж точно сестринского хора не будет. Видимо, думала я, придется смиряться и петь с бабушками без всяких красивых песнопений, совсем просто. И тут случилось чудо: прошло всего несколько месяцев и Великим постом, особо запомнившимся пургой и метелями, сюда друг за другом прибыли в качестве послушниц пять выпускниц музыкального училища из Вологды. Четверо из них сразу стали петь на клиросе. Духовные чада одного батюшки они приехали к нам по его благословению. Хор сложился сразу. Мы жили службами. Восстанавливать что-либо не могли, поскольку нам ничего не принадлежало – ни монастырская территория, ни здания на ней. И так прошло два года. Сестры обязательно бывали на полунощнице, утрене, Литургии, вечерне и повечерии. Три канона, трехсотница, Евангелие, Апостол, вечерние молитвы – все прочитывалось в храме, и тоже никто никогда не уклонялся. Такая сосредоточенность на службах, возможность усиленно молиться стали, можно сказать, той закваской или основой, которая держала монастырь, когда началось его восстановление с бурным строительством. Строительство нас не раздавило, поскольку мы сохранили внутренний стержень, заложенный в течение первых двух лет.
А как началось бурное строительство?

Этот этап и последующие годы связаны с именем замечательного человека – Эрика (в крещении Эраста) Николаевича Поздышева, возглавлявшего в то время концерн «Росэнергоатом». Вышли мы на него, находясь в напряженном поиске угля. Дело обстояло следующим образом: через два года нашего пребывания на монастырской территории истопники отправились праздновать Новый год, бросив огромную угольную котельную, как говорится, на произвол судьбы. Пришлось сестрам заступить «на вахту», и с тех пор она стала для нас постоянной, круглосуточной. Какое-то время с углем помогал район, затем не смог. В стране были тяжкие времена, кругом разруха страшная, а мы в зиму оказались без угля. Стали искать благотворителей в Москве. Куда только и к кому только не обращались – увы, безрезультатно. В конце концов дозвонились до президента концерна «Роэсэнергоатом» и услышали от него: «Что, шуб вам не хватает? Замерзаете?» – «Нет, не шуб, а угля!» – закричали мы в трубку. И тут же спросили: «Можно, кто-то из сестер к Вам приедет и покажет фотографии, как на сегодняшний день выглядит монастырь?» Он согласился. А вскоре последовал ответный визит. Эрик Николаевич приехал к нам как раз на праздник святой великомученицы Екатерины. Со своим заместителем и еще с одним сотрудником концерна. Они все посмотрели, обо всем расспросили, посовещались. «Будем восстанавливать» – услышали мы их решение. Позже наш благотворитель рассказывал, как он пришел к вере. Будучи атомщиком, он, много поездив по заграницам, задавался вопросом: почему там люди просто живут, а в России выживают? В какой-то момент осенило: причина скорее всего в том, что в других странах не разрушали свои святыни. Мы же кощунственно их разрушили. Осквернили, взорвали, где-то разобрали по кирпичику. И единственный путь возрождения нормальной жизни в России – это восстановление ее святынь. Поэтому ехал он к нам осознанно.

Люди, привыкшие иметь дело с атомными станциями (а Эрик Николаевич, замечу, после страшной катастрофы на Чернобыльской АЭС был назначен ее директором, строил «саркофаг» или объект «Укрытие» над 4-м блоком) взялись за монастырь очень серьезно. Работы шли в стремительном темпе. Восстанавливались жилые корпуса, монастырская трапезная, появилась новая котельная (теперь уже на солярке), были переложены инженерные коммуникации по всей территории. Первое время кормить десятки людей приходилось в крохотной трапезной. Было около70 рабочих, плюс студенты духовной семинарии, которые летом вели раскопки на месте взорванного в 1942 году храма преподобного Стефана Махрищского. И владыка Евлогий часто приезжал, и благотворители из «Росэнергоатома». Крупных специалистов в своей области, настоящих подвижников – археолога Леонида Андреевича Беляева, архитектора-реставратора Сергея Васильевича Демидова – словом, всех, кто у нас появлялся, тоже там принимали. Когда нам говорят: «Вы восстановили монастырь», отвечаем: «Мы только кормили людей». Кормили изо дня в день, с семи утра до одиннадцати вечера… Службы и готовка еды – вот что прежде всего вспоминается из тех лет. Но, конечно, самым памятным явилось возвращение к жизни главной святыни монастыря – Стефановского храма – и его освящение Святейшим Патриархом Алексием II. Это было 25 ноября 1997 года. Вообще то событие казалось совершенно невероятным: в монастырь в глухом селе, где подвизается 30 сестер, приехал Предстоятель Русской Православной Церкви! Потом Патриарх Алексий посетил нашу обитель летом 2005 года, а Патриарх Кирилл за время своего предстоятельства побывал здесь уже шесть раз.
Матушка Елисавета, если говорить о детском приюте: начало 2000-х в России было не из легких, но обездоленные дети обрели в обители свой дом и прекрасные возможности развиваться в духовном и творческом плане. Это ведь потребовало не только мобилизации сестринских сил, но и немалых денежных средств?
За строительством комфортного уютного дома для девочек из неблагополучных семей и девочек-сирот стоит еще один замечательный человек, которого Господь к нам направил, тоже из Москвы, но пусть об этом поведает монахиня Анна, казначея обители.
Мать Анна, расскажите, пожалуйста.
Во всем, что у нас происходит, чувствуется чудесная и скорая помощь преподобного Стефана Махрищского. Второго благотворителя – частного предпринимателя, Виталия Ивановича Даниленко – вымолили дети. Сама идея организовать при монастыре детский приют исходила от Эрика Николаевича Поздышева. В общем стали строить дом для детей, которые к нам «прибились» и жили на первых порах кто в библиотеке (где поставили двухъярусные кровати), кто в келье у старшей сестры. Девать их в наших условиях было совершенно некуда, а они, бездомные, так намыкались за свою еще недолгую жизнь и так мечтали о своем доме! В какой-то момент у Эрика Николаевича не хватило средств, стройка должна была встать. Я сказала: «Дети, молитесь! У меня только долги. Вымолите помощь, будет у вас дом. Не вымолите – не будет». Они молились. Сотни писем мы тогда разослали c просьбой помочь, откликнулись единицы. Прислали какие-то небольшие суммы. И вдруг звонок из Москвы. Звонивший сообщил, что хочет помочь детскому приюту. В итоге он нам профинансировал весь остаток за строительство дома, благодаря чему дом был закончен в течение нескольких месяцев. Когда девочки туда вселились, радости было! А Виталий Иванович, человек глубокой веры, продолжает помогать монастырю, как бы приняв эстафету от Эрика Николаевича, которому пошел 82-й год. Главным детищем Даниленко стал храм Живоначальной Троицы, знакомый нам только по старой фотографии. В богоборческие годы были разрушены четверик, алтарь, пол-колокольни. На месте алтаря стоял жилой дом. Мы браться за него боялись. Он был за оградой обители, к монастырю не относился, частью монастырского ансамбля не являлся, и все же при взгляде на него душа отзывалась болью. Но как поднять эту махину? Представляете: 53 метра длина, высота будущего купола 23 метра, да один только алтарь 8 на 11 метров? Появились люди, москвичи, которые сказали, что хотят восстановить храм. Колокольню они возвели, на храм средств не хватило. Строительство началось и остановилось. На это было смотреть еще больнее, чем когда он стоял разрушенный.
И тогда Виталий Иванович взялся за дело?
Виталий Иванович, пожалуй, года два отказывался, говоря, что он будет устанавливать коммуникации, очистные сооружения, помогать со строительством котельной – иными словами, решать хозяйственные вопросы. А купола золотить, говорил он, мол, другие люди найдутся. Когда нам стало совершенно невыносимо видеть остановленную стройку, сестры пошли среди строительных лесов, бетономешалок, мешков с цементов – поставили аналой, положили на него икону преподобного Сергия Радонежского, в честь которого храм был прежде освящен, и стали читать акафист Преподобному. Ходили туда каждое воскресенье в течение месяца. Просто читали акафист! После того, как они, наверное, раза четыре прочитали акафист, Виталий Иванович вдруг неожиданно согласился восстанавливать порушенную святыню. И за три года она была полностью восстановлена, восстала из небытия. Здесь, мы верим, помощь пришла от преподобного Сергия, побывавшего в нашей обители в гостях у преподобного Стефана, с которым его связывала духовная дружба.
Удивительное чувство испытываешь в этом благолепном, дивно расписанном храме. Понятно, что место намоленное, но храм возведен в наши дни, а ощущения «новодела» нет. Кажется, все в нем дышит древностью.
С росписями тоже было интересно. Восстановив храм, наш благотворитель сказал, что ему нравятся белые стены – расписывать их не будем. А среди сестер есть иконописцы, которые обратились к матушке Елисавете с просьбой: несмотря на то, что они никогда стены не расписывали, уж больно хочется попробовать. «Пробовать» решили в небольшом придельчике преподобного Сергия. Наш монастырь около 20 лет связан с прекрасной и удивительной семьей, глава которой Александр Александрович Лавданский – один из ведущих отечественных иконописцев – руководит иконописной мастерской «Киноварь» и все пятеро его детей работают в сфере церковного искусства. Мы попросили его проверить наш проект. Он посмотрел и сказал, что мыслим неправильно: надо на видном месте – да-да, во всю стену! – писать Матерь Божию. Добавил, что поможет, поддержит сестер. Те сделали эскиз, перенесли все по квадратику на стену. Александр Александрович заверил, что у них хорошо получается. Потом, когда своих сил не хватило – объем-то огромный! – разработал проект росписей и сам возглавил работы.
Мать Анна, не могу не спросить и о подсобном хозяйстве. Сестры начинали с маленького участочка, где сажали картошку – их спасительницу в трудные годы. Сегодня у монастыря такое подсобное хозяйство, что каждый его объект – коровник, курятник, молочный заводик – поражает воображение. Это нужно иметь талант руководителя-хозяйственника, чтобы выйти на столь высокий уровень?
Нужно иметь натуру, как у нашей матушки-настоятельницы. Человек неравнодушный, необычайно творческий она открыта всему новому. В монастыре жизнь выстроена так, что сестрам разрешается многому учиться. Например, регенты хора прошли обучение в Регентской школе при МДА и других регентских курсах, певчие совершенствуют свое мастерство с профессиональным педагогом-вокалистом, сестры-иконописцы прошли стажировку в иконописной школе при МДА. А сестру, которая коров видела лишь по телевизору, отправили на послушание в коровник. Матушка ей сказала, что она может вызывать, откуда посчитает нужным, опытных зоотехников. Хороших специалистов, легких на подъем, нашли в Питере, пригласили. Кроме того, сама эта сестра ездила на Российскую агропромышленную выставку «Золотая осень» на ВДНХ. По истечении четырех лет она настолько освоила премудрость выращивания и разведения коров, ухода за ними, что ее стали приглашать для консультаций в другие монастыри.
Беседа с игуменией Елисаветой и монахиней Анной состоялась в непростой для обители день. После Божественной литургии в Стефановском храме началось отпевание схимонахини Венедикты (Свеженцовой). Позже, на поминальной трапезе, матушка Елисавета скажет, что это был чистый человек с детской душой. Безропотная она была, скажет матушка, отметив, что мать Рахиль (такое имя монахиня носила до принятия великой схимы) всегда находилась в мирном расположении духа, и это, вероятно, было результатом серьезной внутренней работы. Другие вспоминали о непосредственности монахини Рахили, которая все время что-то напевала. У нее душа пела, говорили сестры. Многие видели, как мать Рахиль с радостной улыбкой кормила уточек или кошек, работала на скотном дворе, в огороде или просто шла по монастырской аллее и пела! Особенно любила – «Царице моя Преблагая…» На следующий день после того, как ее, измученную тяжелой болезнью, привезли из больницы в родную обитель, клирик монастыря игумен Порфирий (Клименко), разделяющий с сестрами их тяготы и радости практически четверть века, постриг монахиню в великую схиму с именем Венедикты. Ее духовным отцом был приснопоминаемый наместник Оптиной Пустыни архимандрит Венедикт (Пеньков). Татьяне (мирское имя) хотелось всю жизнь быть при батюшке, трудиться во славу Божию, однако тот сказал, что ей полезно уйти в женский монастырь, принять монашество. За послушание она выполнила наказ духовника. Схимонахиня Венедикта ушла в мир иной через два с небольшим часа после принятия великой схимы – в возрасте 59 лет. Не дожила до своего юбилея. Но, по словам матушки Елисаветы, чувствовалось, что она уже была готова для Царства Небесного. Став первой великосхимницей Стефано-Махрищского монастыря, преобразованного в конце XX века в женский, схимонахиня Венедикта вписала в его современную летопись пронзительно-светлую страницу.

Беседовала Нина Ставицкая
Фотограф: Владимир Ходаков
Также представлены снимки из архива монастыря
ОБРАЩЕНИЕ
МИТРОПОЛИТА КРУТИЦКОГО И КОЛОМЕНСКОГО ЮВЕНАЛИЯ
К ДУХОВЕНСТВУ, МИРЯНАМ, ОБЩЕСТВЕННЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ,
БЛАГОТВОРИТЕЛЯМ И ЖИТЕЛЯМ ПОДМОСКОВЬЯ
Восстановим порушенные Святыни!
Возлюбленные служители Алтаря Господня,
всечестные иноки и инокини,
дорогие братья и сестры!
Уважаемые жители Подмосковья!
Душевная боль о порушенных святынях Подмосковья, несмотря на то, что многое сделано, не оставляет меня. Существующее состояние многих храмов, разрушенных и оскверненных в безбожное лихолетье, не может не вызывать скорбные чувства. Уверен, что долг восстановления их лежит на всех нас.
Когда 5 ноября 2014 года Святейший Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищинском районе Московской области, я публично поделился с Его Святейшеством своими мыслями, сказав: «Несмотря на то, что сотни и сотни храмов построены за это время в Московской области и еще больше восстановлено, со скорбью констатирую, что до сих пор не хватило ни сил, ни веры, ни жертвенности, чтобы несколько сотен храмов поднять из руин. Но веруя в Ваше благословение, мне хочется, чтобы с этого дня наше духовенство ревностно постаралось восстановить все до одного порушенные святыни на нашей Подмосковной земле».
С благословения Его Святейшества мы приступаем к этому святому делу. Московской епархией создан благотворительный фонд по восстановлению порушенных святынь, и я благодарен губернатору Московской области А. Ю. Воробьеву, что он вместе со мной стал сопредседателем его Попечительского совета. Горячо надеюсь, что никто в Подмосковье не останется равнодушным к этой инициативе.
Московская епархия уже перечислила на счет фонда более двадцати шести миллионов четырехсот тысяч рублей. Я со своей стороны тоже внес свою лепту в это святое дело.
Призываю духовенство и мирян, общественные организации, благотворителей и всех жителей Подмосковья принять активное участие в восстановлении порушенных святынь Подмосковной земли своими пожертвованиями.
Свои пожертвования можно направлять по следующему адресу.
Заранее всех Вас благодарю и призываю на Вас Божие благословение.
+ Ювеналий, митрополит Крутицкий и Коломенский
 Благотворительный фонд Московской Епархии по восстановлению порушенных святынь начал свою деятельность в декабре 2014 год
Благотворительный фонд Московской Епархии по восстановлению порушенных святынь начал свою деятельность в декабре 2014 год
Инициатива создания Благотворительного Фонда Московской епархии по восстановлению порушенных святынь принадлежит митрополиту Крутицкому и Коломенскому Ювеналию. Сопредседателем попечительского совета Благотворительного Фонда является Губернатор Московской области Андрей Юрьевич Воробьев.
На сегодняшний день в Подмосковье порядка 245 церквей, требующих восстановления, среди которых немало уникальных и древних объектов, которые разрушаются с каждым годом, в результате чего мы можем навсегда утратить огромный пласт культурного наследия.
Основной целью деятельности фонда является оказание благотворительной помощи в восстановлении порушенных храмов Московской области. С момента начала работы Фонда Управляющим и Экспертным советом была рассмотрена 61 заявка от приходов и монастырей Московской епархии, было принято в работу 56 заявок по 56 храмам.
За три года работы Фондом были полностью восстановлены девять храмов: Храм Вознесения в с. Сенницы Озерского района, Ильинский храм в с. Пруссы Коломенского района, Воскресенский храм в с. Воскресенское Рузского района, Колокольня Димитриевского храма пос. Белоозерский Воскресенского района, погост Дорки, Богородицерождественский храм в д. Большие Белыничи Зарайского района, Преображенский собор и Никитский храм г. Каширы, Богородицерождественский храм в с. Селевкино Дмитровского района, Одигитриевский храм в д. Чернево Зарайского района. В 2018 году планируется великое освящение еще двух храмов в Рузском районе Подмосковья.
В своей работе Фонд стремится, прежде всего, сохранить и передать потомкам практически утерянные храмы. Если это не сделать сейчас, многие святыни разрушатся, как уже исчезли безвозвратно многие сотни храмов.
На сегодняшний момент, суммарно, в работе Фонда на разных стадиях проекта, таких как: сбор информации, составление отчетов о первичных технических обследованиях, проектировании, а также непосредственно в стадии реставрации находится 22 храмов.
В 2016 г. работы завершены в восьми храмах:
- В 3-х храмах завершены реставрационные работы на основе ранее разработанных на средства Фонда проектов:
1. Храм Вознесения в с. Сенницы Озерского района (Озерское благочиние). Великое освящение состоялось в июле текущего года;
2. Ильинский храм в с. Пруссы Коломенского района (Коломенское благочиние). Великое освящение состоялось в сентябре текущего года;
3. Воскресенский храм в с. Воскресенское Рузского района (Рузское благочиние). Работы завершены. Великое освящение запланировано на ноябрь текущего года.
В 5-ти храмах завершены противоаварийные работы по ранее разработанным на средства Фонда проектам:
1. Никитский храм в г. Коломна (Коломенское благочиние).
2. Надвратный храм Преображения Господня Лужецкого монастыря (г. Можайск).
4. Воскресенский храм с. Старая Хотча (Дубненско-Талдомское благочиние).
5. Богородицерождественский храм с. Никольское (Рузское благочиние). 2016г. – завершен первый Этап противоаварийных работ.
В завершающих стадиях работ находилось 3 храма:
1. Димитриевский храм пос. Белоозерский, погост Дорки (Воскресенское благочиние).
2. Богородицерождественский храм д. Большие Белыничи (Зарайское благочиние).
3. Никитский храм г. Кашира (Каширское благочиние).
20 октября 2016 года на Управляющем совете Фонда рассмотрены и приняты в работу заявки по следующим храмам:
1. Богородицерождественский храм д. Большие Белыничи (Зарайское благочиние) – проведение второго этапа реставрационных работ;
2. Воскресенский храм д. Старая Хотча (Дубненско- Талдомское благочиние) - второй этап противоаварийных работ;
3. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы с. Никольское (Рузское благочиние) - второй этап противоаварийных работ;
4. Скорбященский храм с. Пересветово (Дмитровское благочиние) – первый этап реставрационных работ;
5. Никитский Каширский монастырь. Церковь великомученика Никиты, г. Кашира – второй этап реставрационных работ;
6. Казанский храм с. Растовцы (Каширское благочиние) – разработка проекта реставрации;
7. Церковь Святой Троицы д. Захарово (Клинское благочиние) – разработка проекта реставрации;
8. Крестовоздвиженский храм д. Марьинка (Ступинское благочиние- разработка проекта рестврации;
9. Гуслицкий Преображенский монастырь. Колокольня с церковью свт. Фотия, митрополита Московского» г. Куровское – разработка проекта реставрации.
На средства Фонда спроектированы и ожидают своей очереди работы:
1. Богородицерождественский храм с. Якоть (Дмитровское благочиние);
2. Одигитриевский храм с. Чернево (Зарайское благочиние);
3. Христорождественский храм д. Мытники (Рузское благочиние);
4. Богородицерождественский храм с. Верховлянь (Малинское благочиние).
Кто и зачем восстанавливает деревянные храмы Русского Севера? Что это такое вообще – Русский Север, и каков его дух? Об этом и многом другом в рубрике «Кто есть кто в благотворительности» мы говорим с настоятелем строящегося храма св. равноп. кн. Ольги в Останкино, клириком храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском отцом Алексеем Яковлевым, руководителем проекта «Общее Дело» в Благотворительном Фонде содействия возрождению Храмов Отечества.
отец Алексий с сыном Николкой
Справка:
«Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера» является проектом Благотворительного Фонда содействия возрождению Храмов Отечества. Основан в 2007 году. Проект нацелен на сохранение памятников деревянного зодчества Русского Севера, проведение противоаварийных и реставрационных работ.
Руководитель проекта: иерей Алексей Яковлев, сотрудник Синодального отдела Москвоского Патриархата по взаимодействию с Вооруженными Силами, клирик храма Тихвинской иконы Божией Матери в Алексеевском г. Москвы, настоятель строящегося храма св.равноп.кн. Ольги в Останкино.
– Почему вы стали заниматься восстановлением храмов?
– Однажды моя супруга художница Татьяна с подругой проезжала через одну поморскую деревню и услышала стук топоров. Вообще, это редкое явление, когда в небольших деревнях восстанавливается храм. Даже священников в таких деревнях нет. Они поднялись на колокольню, хотя лестницы внутри только делались, и это было опасно. Дедушка, который занимался ремонтом, отругал и Таню, и ее подружку за безрассудство. А потом показал на дом и говорит: вот там моя бабушка, она вас чаем напоит. Так мы познакомились с Александром Порфирьевичем Слепининым из д. Возогоры Онежского района Архангельской области. Ему тогда было уже почти 80 лет. Он понимал, что после его смерти окончательно разрушится и колокольня, и храм, а надо сказать, что здесь чудом сохранился ансамбль из трех храмов. Александр Порфирьевич решил, насколько это в его силах, сохранить колокольню. Фактически на свои средства он накрыл крышу у колокольни, чтобы она дальше не разрушалась. Вместе с женой они испрашивали у государства помощи, но даже те 15 тысяч, что им выделили, по дороге разворовали, и до них дошли копейки…
Я, узнав об этой истории, решил, что наша семья будет отдавать десятую часть доходов этому дедушке на стройматериалы. К этому присоединились и наши друзья. Приятно, когда человек что-то созидает, а ты ему помогаешь. В результате была восстановлена колокольня и законсервирован Никольский храм.
Летом 2006 года мы с супругой приехали в отпуск в этот же Онежский район. Я зашел, точнее даже влез, в храм Зосимы и Савватия 1850 года постройки. Он был рухнувший, заросший кустарником и деревьями, с обрушившейся алтарной частью и падающей колокольней. «Войти» в храм можно было только через окно. И хотя там толком ходить было нельзя, когда я туда попал, меня посетило и долго не оставляло удивительное чувство: как будто здесь совсем недавно служили литургию… Уезжая, этому же дедушке мы оставили средства, чтобы он вынес сгнившие части крыши, убрал сгнивший пол, освободил бы храм от мусора. Оставили ему 10 тысяч рублей. Но на эти деньги, как мы вскоре узнали, он не только мусор вынес, но сделал новую крышу, потолок, полы. Лично для меня это было шоком. В итоге, полное восстановление храма силами местных жителей, которые работали бесплатно, обошлось в 70 тысяч рублей. Тогда нам с женой пришла в голову мысль, что раз так недорого стоит восстановить один храм, то почему бы не сделать это со всеми деревянными храмами Севера, найдя единомышленников?
Идею проведения противоаварийных работ в деревянных храмах Поморья поддержал мой непосредственный начальник протоиерей Дмитрий Смирнов, тогда председатель Синодального Отдела по взаимодействию с Вооруженными Силами. Он сказал, что всю жизнь об этом мечтал. Поддержал идею и Преосвященнейший Тихон, бывший тогда епископом Архангельским и Холмогорским. Именно в его епархии было больше всего брошенных храмов. Так появилась группа любителей Русского Севера, разработавшая проект «Общее Дело. Возрождение деревянных храмов Севера».
– А почему Север? Ведь по всей России стоят разрушенные храмы?
– Деревянное зодчество – особая и уникальная часть нашего культурного наследия. Если говорить о культуре России, то первое, что отличает ее от европейской культуры – это иконопись и деревянная архитектура. В первую очередь хотелось поддержать именно ее, как наиболее уязвимую и находящуюся под угрозой полного исчезновения. Каменный храм более долговечен. А дерево разрушается значительно быстрее. Да и провести здесь противоаварийные и консервационные работы гораздо дешевле, чем в случае с каменным храмом.
И мы подумали, что если с Божьей помощью восстановить деревянные храмы по всему Северу (а их, возможно, около 600, хотя никто не знает, сколько точно), то дальше можно будет переносить опыт и на каменные. Каменных неимоверно много – десятки тысяч брошенных храмов.
Там, где русский становится русским
– Север – это уникальное место на земле. Русские там начинают чувствовать себя русскими. Писатель Юрий Казаков в своих воспоминаниях написал, что он впервые почувствовал, что такое быть и что он есть только в тридцать лет, когда приехал на Белое море. С этого момента начинается его рождение как личности.
Север удивлял всегда и всех русских людей, прежде всего художников. Вспомните Васнецова, Билибина. Русский Север пробуждает в душе русского человека, все лучшее, настоящее и глубокое. Однажды Дмитрий Сергеевич Лихачев, который сказал много добрых слов о Севере, написал, что возрождение России начнется с Севера.
Я так говорю, потому что все это подтверждают мои собственные наблюдения. Все люди после наших экспедиций ни о чем другом ни говорить, ни думать не могут. Все без исключения рассказывают о том, что они открыли там, на Севере. Порядка 80% наших волонтеров принимают участие в последующих экспедициях. То есть нет таких людей, которые раз съездили, а потом перестали бы быть участниками проекта. Все, кто съездил, отправляются и на следующий год, и через год.
Это знакомство с русским Севером – настоящее потрясение, причем не от буйных красок, как на юге, где насыщенная природа и море. Здесь потрясение внутреннее и душевное, в каких-то очень тонких красках. Люди соприкасаются со своей культурой и природой. И это для них становится открытием и шоком. А главное, что люди друг друга узнают. А узнать человека не так то просто. Но именно в экстремальных условиях каждый из нас становится тем, кто он есть и проявляет самые лучшие качества, которые только возможно.
Наши экспедиции строятся так, что мы едем туда, где нас никто не ждет. Мы едем туда, где без нашего участия храм непременно погибнет, где нет священника, отвечающего за храм, где нет местных жителей, заинтересованных в сохранении храма.
Когда приезжаем, местные жители к нам относятся настороженно. Первыми всегда приходят дети. Они начинают помогать. И только потом, вслед за детьми приходят родители. Когда экспедиция уезжает, – в среднем мы остаемся на месте дней пять, – из местных жителей уже складывается та группа, которая и в дальнейшем заботится о храме.
Например, так было с храмом святителя Николая чудотворца в деревне Прислениха Плесецкого района. Мы разобрали и выгребли мусор, оттерли похабные надписи. Отслужили панихиду у могилы перед храмом, где похоронены родители одного из местных жителей. Оставили этому человеку немного денег – 5 тысяч рублей, на то, чтобы он разобрал старую кровлю и поставил леса (мы планировали продолжить финансирование). Но никаких вестей от этого человека мы не имели. А через два месяца, когда до него удалось дозвониться, выяснилось, что он не только старую крышу разобрал и новую сделал, он еще восстановил алтарь, который был разрушен и сгнил до нижнего венца. И сделал он это на свои деньги.
То есть нам нужно было лишь показать пример, показать, что это важно. Дальше все делается и без нас. Ведь люди, с которыми там наши экспедиции знакомятся, – удивительные. Они чистые. Для всех нас очевидно, что люди на Севере просто другие, совершенно по-другому открытые. А священники там настоящие подвижники.
Наше знакомство происходит на почве совместного труда. Мы приезжаем восстанавливать их святыню. И то, что приезжая, мы не говорим попусту, а много, с радостью и полнотой трудимся, для местных жителей очень много значит.
Если есть в Церкви живая община, то можно делать какие угодно проекты
– Как случилось, что идея так быстро превратилась в проект благотворительного фонда?
– У нас при храме существует очень слаженная и дружная молодежная организация. Поэтому достаточно было просто озвучить идею, как сразу же нашлись те, кто готов был отправиться в экспедицию.
Каждый год на праздник Крещения к храму стекаются тысячи людей за крещенской водой. Но что это за святыня и как ею пользоваться, люди часто не знают. Однажды мы решили сделать информационные листки, рассказать, что такое крещенская вода и как помолиться перед ее принятием. Напечатали и раздали 7 тысяч экземпляров. На следующий год с нашей же молодежью сделали уже 250 тысяч штук и раздали в некоторых храмах Москвы и епархиях. На третий год мы на собственные деньги, которые удалось собрать среди прихожан, сделали уже 500 тысяч экземпляров и распространили в 215 храмах Москвы, в пяти епархиях и даже за границей. А потом наше начинание передали в Синодальный отдел по делам молодежи. Теперь эти брошюры раздаются во всех храмах и обязательно.
Получается, что один приход сумел запустить очень важный процесс. Это к слову.
Я уверен, что если есть в Церкви живая община, то в этом случае можно делать какие угодно проекты. «Общее дело» стал одним из многих проектов, которые осуществляет наш приход.
– А кто вам помогает, финансирует?
– В первую очередь те, кто ездит в экспедиции. Изначально мы отправляли экспедицию по такому принципу: раз человек едет трудится, мы ему оплачиваем проезд, питание и предоставляем стройматериалы. Сейчас все чаще получается, что человек оплачивает сам себе все: и проезд, и питание, причем добровольно. А мы оплачиваем только стройматериалы и профессиональных плотников, которые руководят работой. Архитекторы сотрудничают с нами бесплатно. Вся наша деятельность проходит строгий архитектурный контроль. То есть получается, что огромнейшие средства люди изыскивают сами. Нам также помогают несколько компаний, которые входят в холдинг РЖД. То есть, наш фонд существует на частные пожертвования.
Брошенные храмы
– Как разрушали храмы?
– Храм святителя Николая в деревне Возогоры на Белом море в советское время остался с двумя куполами. А когда-то было их пять. Священника, как во многих других храмах, расстреляли в тридцатые годы. А потом пришли разрушать саму церковь. Только один человек в деревне согласился скидывать купола. Он взобрался на крышу. А потом этот человек увидел, что загорелся его дом. Бросился домой спасть ценности, но уже из него больше не вышел, сгорел. После этого желания разрушать последние два купола не было уже больше ни у кого в деревне. Так и стоял до наших дней этот храм, пока не были воссозданы разрушенные купола и храм вновь стал пятиглавым.
Вообще, по всему Северу сохранилось немало свидетельств того, что люди, которые участвовали в разрушении храмов, умирали потом страшной смертью. Грех, который они совершали, влек за собой последствия. Что интересно, прошло уже 80 лет с тех пор, а истории эти до сих пор живы в памяти местных жителей. Мы в своих экспедициях записываем рассказы очевидцев, тех, кто мальчишками помнил эти храмы, как в них служили, а потом разрушили. Мы прекрасно понимаем, что история уходит, пройдет лет десять и не будет уже на свете тех, кто все это помнит и может рассказать.
Радостно, что молодежи дороги наши древние святыни. Как-то в экспедиции познакомились парень и девушка. Она воцерковленная, он нет. Через некоторое время он пришел ко мне со словами: никогда не видел человека такой внутренней красоты, благословите сделать ей предложение. После венчания, в феврале, в сорокаградусный мороз они отправились в свое свадебное путешествие на Север, делать обмеры храма, чтобы его в дальнейшем восстанавливать. Такое вот незабываемое путешествие.
– Существует ли карта расположения объектов, нуждающихся в реставрации?
– Да, есть и карта, есть наш сайт, где мы размещаем имеющуюся информацию, есть описания почти по каждому храму. Мы обследовали около 150 храмов и часовен, в 85 провели противоаварийные работы а три восстановили полностью.

В одной деревне мы познакомились с девяносто двухлетней бабушкой Зоей. Напротив ее дома стояла полуразрушенная часовня, которую бабушка посещала каждый день. И чем старше становилась бабушка, тем больше разрушалась часовня. Бабушка никому не позволяла выносить из этой Крестовоздвиженской часовни большое старинное распятие, которое тем самым ей удалось сохранить.
Когда мы познакомились с ней, она уже не могла подняться по ступенькам, а ложилась и вползала в часовню.
При первой встрече со мной она попросила: «Сыночек, помолись за меня, чтобы Господь забрал». Конечно же нам хотелось восстановить часовню пока она еще жива. Почила бабушка Зоя, увидев часовню восстановленной. Туда стал приезжать священник, который ее исповедовал и причащал.
Или Сретено-Михайловский храм в Красной Ляге. Этот храм федерального значения – визитная карточка Каргополя, но при этом был в удручающем состоянии. Находится в семи километрах от ближайшего населенного пункта. Высотой он выше десятиэтажного дома, около сорока метров. Алтарная бочка была в таком плачевном состоянии, что еще одна зима, и она бы рухнула. Первое, что сделали волонтеры «Общего дела» – перекрыли алтарную часть, что стоило 150 тысяч рублей, на следующий год сделали перекрытия, полицы – это 200 квадратных метров. Смета на противоаварийные работы составила около 400 тысяч рублей. Если бы за это взялось государство, то, по оценкам специалистов, работы обошлись бы в миллионы рублей.
В принципе, все обходится не дорого.
– Кто те люди, которые приходят к вам волонтерами? И не возникает ли проблем в связи с тем, что в большинстве своем они непрофессионалы?
– И надо сказать, что в наши экспедиции ездят высокообразованные люди. В этом году в среднем у тех, кто отправляется в экспедицию, было по два высших образования, у некоторых по три. Это толковые люди самых разных профессий: врачи, геологи, программисты, и даже директора предприятий. Самые разные люди, но все они – очень хорошие.
В течение зимы у нас проходят самые разные курсы. Лучшие архитекторы Москвы, лучшие специалисты своего дела читают лекции. Лучшие плотники обучают своему ремеслу.
Если храм освящается, то на этом месте навсегда остается ангел-хранитель
– Предположим, что человек образованный, любит свою культуру, знает историю, но если он гуманитарий и руками делать ничего не умеет, может ли он принести пользу при реставрационных работах?
– Любой человек может принести пользу. Проекты противоаварийных работ создают наши архитекторы, руководят работами профессиональные реставраторы и плотники. В ходе этих работ люди всему учатся. Часто бывает так, что работа не сложная. И первое, – надо храм сделать храмом: спилить деревья вокруг, прорехи в крыше рубероидом закрыть, стереть похабные надписи, вынести мусор, оттереть полы, отмыть иконостас, повесить иконы. И просто помолиться.
Первая экспедиция бывает посвящена именно приведению храма в порядок. Своим трудом мы напоминаем местным жителям, что храм – это храм. А потом, когда возвращаемся, делаем уже все остальное.
Обычно мы проводим противоаварийные работы, за время которых вокруг храма складывается община заинтересованных в его восстановлении местных жителей. Они заботятся о храме и после нашего отъезда. Сейчас у нас такой этап, когда храмы во многих деревнях восстановлены и появляются интересные предложения по развитию региона. Например, спутница известного исследователя архитектуры Русского Севера, английского фотографа Ричарда Дэйвиса, Даррил предлагает организовывать туристические поездки для англичан. Чтобы туристы сознательно платили в два раза больше себестоимости: половина суммы шла бы на оплату поездки, а вторая половина – на восстановление храмов Севера.
Наш проект расширяется, к нему подключаются самые разные люди. Например, прихожане храма о. Дмитрия Смирнова вместе с воспитанниками его детских домов. Три года подряд многочисленные экспедиции отправляет Сретенский монастырь. Студенты Николо-Угрешской семинарии приезжают во главе с ректором, и др.
А еще бывает так: в 1990-х годах в деревне Сельцо на Северной Двине студенты из организации ВООПИК (Всероссийское общество охраны памятников культуры, которая в советские времена была очень мощной организацией) начинали в Сельце реставрационные работы. Там были поставлены леса, началось восстановление, но закончилось финансирование и все было брошено. Храм падал в прямом смысле слова. И у тех людей, которые тогда это делали (ветераны ВООПИК), ныне появилось желание продолжить. Конечно же за двадцать лет они не помолодели, но не утратили опыт. Они примкнули к нам и восстановили, исправили, доделали то, что тогда было оставлено.
Вообще, наш проект предполагает восстановление только брошенных храмов. И колокольню в Сельце мы только очистили от птичьего помета, убрали территорию вокруг, но ничего там не делали. Мы сделали предварительную работу и передали ее именно тем, кто когда-то ее начинал. Если появляются люди, которые начинают заботиться о храме, мы переходим на другой.
– Обезглавленный, разоренный и оскверненный храм, от которого часто почти ничего не остается, кроме сруба, является ли храмом вообще? Почему вы считаете, что его нужно восстановить? Может проще построить новый?
– Конечно, в сто раз проще, а главное дешевле. Но храм, безусловно, остается храмом. Потому что, если храм освящается, то на этом месте навсегда остается ангел-хранитель, который молится и о тех, кто его создавал, и о тех, кто его возрождает. И хотя проще рядом построить новый, но когда есть старый, то лучше, в прямом смысле слова, соприкоснуться со своими предшественниками, которые двести лет назад своими руками, с любовью клали эти бревна, а потом молились здесь.
Когда мы восстанавливаем храм, мы становимся в один ряд с теми, кто его создавал. И это не виртуальное соприкосновение со своим народом и историей, а в прямом смысле физическое. Без преемственности нет будущего. Когда исчезает храм, исчезает кусочек России. Сейчас все деревни доживают свой век. Люди в них либо умерли, либо перебралась в город. Но храм – самое главное место в селе. Строились они на века. Если храм специально не разрушали, зачастую он остается последней постройкой в исчезнувшем селе. Если разрушается храм, исчезает русская земля. Поэтому сохранение этих храмов – в прямом смысле сохранение русской земли.
Фотографии упомянутых храмов.