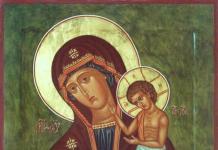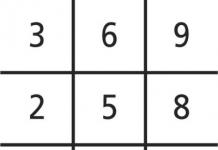Образы богинь судьбы часто связываются с образом нити, прялки, веретена. В народе женщины-рукодельницы, имеющие дело с полотном и нитью, также наделяются пониманием тайной природы вещей и умело используют свое знание.
При помощи нити воздействуют на все сферы жизни: «какова нить, такова и жизнь».
Судьба человека воспринимается как нить, выпряденная на прялке божеством, и затем оформленная (уже человеческими руками) в виде символического шитья, магического вязания, ткачества и т.п. – с целью предначертания будущего новорожденному или же с целью корректировки уже предопределенной судьбы. Божества могут изменить судьбу человека в моменты ритуальной смерти, т.е. при инициации, замужестве, отказе от рода и пр.
Колесо прялки стало колесом времени (или же понимание цикличности процессов в природе оказалось там просто объяснить посредством вращающегося колеса) – рождения, жизни и смерти, а символ круга означал солнце, вечность, образы Бога и мира как точки отсчета. Колесо символично и цифре 0 - замкнутый круг, беспредельное, начало и конец, символ абсолюта. Узоры на прялке связывали человеческую жизнь с мифическим актом ткачества мироздания.
В восточно-славянской культуре центральная часть прялки, с которой соприкасалась кудель, часто украшалась знаками-символами солнца и суточного круговорота. Колесо крутится – жизнь-нить прядется, солнышко по небу катится.
Время в мифологии осмыслялось как конкретная предметная стихия – кудель на прялке, челнок или ткань на станке богов (пример, к сожалению, «не русский», но показательный: Пенелопа, наученная Афиной, распускает натканное за день, тем самым отсрочивая время выбора, т.е. приостанавливает время, замедляет течение человеческой жизни). В некоторых традициях определенный отрезок времени так и назывался «пряжей» («бабий счет по пряже»).
Если на нити (читай – на прямом течение силы/жизни/энергии) завязывался узелок, это изменяло заданное течение. В одних случаях узелки на нитях могли выступать в качестве оберегов от болезней и вреда, в других – наоборот, свидетельствовать о наведении порчи (например, при родах). Спутывая или перекручивая нить – по аналогии переносили действие на жизнь человека, спутывая, сбивая, либо наоборот - выпрямляя. Создавая изделие, вместе в нитью вплетали свои желания, посулы, мечты. Умельцы вязания узелков на нити с целью изменения жизни/сеобытия назывались наузниками, а сами колдовские узелковые нити - наузами.
Колдовская нить прялась ради изменения (коррекции) судьбы, т.е. изменения чего-то в настоящем и будущем. Однако иногда чтобы изменить будущее, надо вернуться назад, в прошлое – в обрядовом ткачестве это выполняется кручением нити против часовой стрелки (т.е. открываются запирающие барьеры, пряха оказывается в потоке времени). В этот момент она создает новый посыл/желание, и вплетает его в ткань овеществленной реальности.
Духи прядущие, ткущие, вышивающие
Мифические существа любят заниматься прядением и ткачеством, но чаще всего практической пользы это не приносит. «От кикиморы не дождешься пряжи» - говорится в пословице. Народная память сохранила больше историй о нехорошем «исходе» пряденья духами: видеть прядущую кикимору – к смерти в избе; когда кикимора гремит коклюшками – быть беде. Однако если за прялку садится дух (особенно в значимые дни года, благосклонно расположенный к хозяевам), последствия бывают благоприятными – дух может «напрясть» богатство, здоровье, удачу.
Чаще всего прядя, дух приговаривает и нашептывает пожелание, чаруя пряжу, домочадцев, скот. Для того, чтобы «не рисковать», старались не оставлять рукоделье на видном месте, вовремя заканчивать работу, и, по большому счету, не ссориться с духами.
В прядущих (вяжущих, плетущих, ткущих, шьющих, вышивающих) духах часто узнаваемы божества, предопределяющие судьбу, будущее. Существуют разные версии – «кто был первичен». Одни утверждают, что сначала было много мелких божков и духов, из которых выделились основные Боги. Кто-то говорит, что все было наоборот, и Богов было мало, а функций, возложенных на них – много, и постепенно эти функции дробились, передаваясь сначала младшим богам, а потом и природным духам. Другие считают, что мир вокруг живой, и все, что есть на земле отражается в «другом мире», а наоборот. В любом случае боги, духи и люди сосуществуют рядом.Среди богинь-прях наиболее известна Мокошь (предположительно связь со словом «mokos» - «прядение», но этой связи обнаружить мне не удалось, зато в санскрите найдены слова mocsa - освобождение, спасение души, мокшака - разрывающая связи). Другие версии имени - Ма-кош означает “Мать жребия” (в санскрите найдены слова kac – связывать, kac - "быть видимым, проявляться").
Рожаницы, богини «предопределенности», вместо пряжи прядут судьбу людей, наделяя их счастливым или несчастливым уделом. Одна дева меряет жизнь, другая отрезает нить судьбы, третья, старшая, произносит слово судьбы. (Культ рожаниц постепенно сливался с культом домашних духов). Иногда рожаницам соответствуют «пряхи заговоров», локализуемых на горе (камне, на реке (море), под деревом (на столбе), где «три девицы… прядут, выпрядают, узоры набирают».
Сходные функции несли богини судьбы Доля и Недоля (Среча и Несреча). Домовой (либо доможириха, женская ипостась домового), хранитель дома, предок рода. Мара (призрак, привидение, наваждение, выглядящая как маленькая, «запечельная» старушка), появляется лунной ночью. Иногда она принимает вид прялочного колеса, иногда рвет пряжу и кудель, что служит определенным символом – (в образе богини смерти) мара забирает душу, покидающую тело. Кикимора (вариации мара/жена домового, выглядит как женщина любого возраста с выраженным физическим уродством, связана с культом мертвых) любит прясть в одиночестве – иногда помогая хорошим хозяйкам, а нерадивым вредя. Русалки (объединяющие в народных представлениях всех женских природных духов, а также умерших неестественной смертью женщин) любят шить. В русальную неделю им оставляли на деревьях холстину, нитки, одежду. «Лесные жены» дарят людям клубки «неубывающих» ниток.
Комоха (персонификация лихорадки) – помимо владения разными инструментами (режет ножом, точит) еще и прядет. Мифическая пряха, живущая в «избушке на курьей ножке, на веретенной пятке… шелк прядет, нитки длинные сучит, веретено крутит…» (по описанию Баба-Яга, либо старуха/ведунья). Пряха веретено крутит, избушка вертится, нить в клубок скручивается – а тот клубок помогает преодолеть пространство и время герою, ищущему свою судьбу. Женщина Иного мира, помогающая кому-то в мире человечьем – используя магические способности она оживляет тканное/вышитое полотно, творя гармонию между мирами – низшим, высшим и срединным.
Использование нити/кудели/веревки в обрядах
Используемый в прядении материал - чаще всего шерсть, лен, конопля, хотя иногда в ход идут куриные перья (Кикимора) и волосы хозяев (Мокошь). Используя шерсть/перья/волосы духи манипулируют средоточием жизненной силы людей и животных, поэтому такие «нити» обладают более сильным воздействием. Духи-пряхи часто сами могут оборачиваться куделью, и тогда прядется уже не просто шерсть, а их волосы – как сочетание жизненной и магической силы, передаваемой полотну. Одновременно прядущие духи ли, женщины ли, наговаривают на свою работу пожелания.
В отличие от простых смертных духи все-таки выполняют свою «работу» сознательно, они существуют на тонком уровне - и видят тонкие плетения - с чего они начаты, как связаны, чем закончатся: поэтому для них "плести" потоки также легко, как для людей нити.
Для достижения целей использовали не только разный материал для нитей (шерсть, лен, шелк), но и разную цветовую гамму (красные, белые, суровые, черные), а также разное количество нитей (одна, три или более).
Способ повязывания нитей на тело человека можно соотнести с различными украшениями: на шее нить ассоциируется (либо заменяется позже) ожерельем, на руке - браслетом, на пальце – кольцом, на талии – поясом.
Также важен был способ крепления нити на теле: обвязывание или крест-на-крест.
Тайный, магический смысл рукоделий оказался известен не только богам-духам, но и «знающим» людям, колдунам, знахарям. В отличие от простых людей, «знающие» занимались осознанными и целенаправленными манипуляциями с куделью, пряжей, нитью, веревкой и пр. атрибутами рукоделия. Эти действия нашли отражение в гадательных и магических обрядах.
Маленькая дроу сидела в темном углу комнаты и плела кружево. Нить аккуратно следовала за нитью, создавая невероятный узор... Девочка улыбнулась, внимательно следя за руками. Дверь неожиданно распахнулась и на пороге появился ВЗРОСЛЫЙ дроу... Ее отец... Малышка попыталась спрятать рукоделие, но не успела... - Илири, опять кружева плетешь? - возмущенно произнес ее отец. - Но папа..., - попыталась спорить Илири - Что папа??? А что тебе говорил? Ты - наследница нашего рода..., - дальше девочка привычно отключилась, пережидая нотацию. - ... соответствовать своему статусу... Больше никаких кружев, вышивания и тому подобного! - на этой ноте отец, поняв, что его дочь не слушает, мысленно выругался и вышел. А Илири привычно пожала плечами и продолжила свое занятие. В комнату серой тенью скользнула светлая эльфийка. Улыбнувшись подруге, она осмотрела ее почти законченную работу и они вместе принялись искать ошибки в плетение. Не найдя их, эльфийка от души похвалила Илири, даже покрасневшую от смущение, так редко она слышала такие слова... Шли годы. Илири, не смотря на активное сопротивление отца продолжала заниматься любимым делом... Из-за чего заслужила прозвище Кружевница. Ее кружевами любовались все, с каждым годом девушка ткала все более сложные узоры, и, однажды, они обрели цвет и форму, став судьбами. Илири уединилась в тихой башне, наедине со своим рукоделием и только Аэроми, ее светлой подруге, удалось ее вытащить из укромного уголка на ежегодный бал, проходящий у светлых эльфов. На бал дроу одела легкое платье из своих старых, обычных, кружев. Она не собиралась ни на кого производить впечатление, просто встала в уголке, мечтая оказаться в своей тихой башенке... Но вдруг увидела ЕГО... Волосы цвета вороного крыла гривой стекали за спину, посмотрев один раз на него, она утонула в темно-зеленых глазах эльфа. Тот целый вечер танцевал с другими девушками, а Илири... Она просто стояла и смотрела... Приехав домой, она не села, как обычно, за станок, а долго смотрела вдаль. Ее размышления прервал тихий бархатный голос за спиной. - Здравствуйте... Илири, - обернувшись, темная эльфийка утонула в темно-зеленый глазах эльфа. Это был самый счастливый вечер в ее жизни, а потом... - Уходи, Диорэль..., - тихо попросила она и столкнулась с взглядом, полным чистого недоумения. - Уходи, - тихо повторила она. И эльф, ничего не спрашивая, ушел. Илири расплакалась, но постепенно боль прошла... Творящая судьбы должна быть одна, одинока, и с этим ничего не поделать. Она сотни раз спрашивала себя "Почему???" и сотни раз не находила ответа... У нее остался лишь долг и ничего более...

Сидели рядом три сестры,
«Венерин волос» взяв,
Они браслет плели, быстры,
Из мягких, тонких трав.
Я подошёл у них спросить,
Что это за браслет;
- Тебе прядём мы жизни нить,
Богини мне в ответ.
Увидев их веретено,
Я молвил им, смеясь:
«Прядите нить, мне всё равно,
И рвите в нужный час».
/Роберт Геррик /
В греческой мифологии три дочери Зевса и Фемиды, богини судьбы: Клото прядет нить жизни, Лахесис распределяет судьбы, Атропос в назначенный час обрезает жизненную нить. Мойрам соответствуют римские Парки.
У древних греков были три Парки, которые пряли нити жизни. Но и каждый, познавший мудрость, знает, что существуют три Парки, которые не переставая прядут каждая свою нить, и все три выпряденные нити свиваются в одну и образуют крепкую нить судьбы, которая связывает или освобождает человеческую жизнь на земле.
Эти три Парки - не женщины греческой легенды; они - три силы человеческого сознания: сила воли, сила мысли и сила действия. Это и есть те Парки, которые прядут нити человеческой судьбы, но они находятся не вне человека, а внутри его. Его судьба делается им самим, а не навязывается ему произвольно внешними силами; его собственные силы, ослепленные неведением, прядут и сплетают те нити, которые связывают его; но точно так же его собственные силы, направляемые знанием, освобождают его от им же наложенных на себя цепей.
(безант)
Три мойры (лат. parcae — парки). В греческой и римской религии духи, которые, как считалось, определяли участь человека — не только собственно события его жизни, но также ее продолжительность, которую они устанавливали при его рождении. Был ли Юпитер, всемогущий отец богов, подвластен их воле — вопрос, ответы на который в античности были различны. Вера в их существование сохранилась до наших дней в некоторых частях Греции, где их умилостивляют после рождения ребенка. Обычно они изображаются прядущими нить жизни и отмеряющими и отрезающими назначенную длину. У Клото веретено (или — реже — прялка), Лахесис держит катушку, Атропос, самая ужасная из них, готова перерезать нить своими ножницами. Но твердого согласия в том, что касается их функций, нет. Иногда Клото перерезает нить, а Лахесис отмеряет ее своим жезлом. Возле них стоит корзина с катушками. Они нередко составляют часть большой аллегорической композиции, и в особенности сцен с фигурой СМЕРТИ (скелет с косой), которая может ехать на своей колеснице. См. также МЕЛЕАГР. Их описал Платон в своем диалоге "Государство" (10: 617).
(лат. родительницы). Их греческое наименование мойры (распределительницы), а также латинское фаты (богини судьбы) соответствуют скандинавским норнам. Парок считали или дочерьми ночи (греч. Нике), или, как их сестер (оры, горы), дочерьми Зевса и Фемиды. В изобразительном искусстве они представляются как пряхи (см. Веретено). Первая, Клото, прядет нить жизни, вторая, Лахесис, сохраняет ее, в то время как третья, Атропос ("Неотвратимая"), ее обрезает и этим кладет конец жизни человека. Иногда они изображаются также с веретеном, свитком и весами. Римские парки первоначально были богинями рождения с именами Децима и Нона (по девятому месяцу после зачатия), однако под греческим влиянием и на римских парок была распространена тройственность (ср. Трехликость) с наделением каждой из них соответствующей функцией при определении судьбы..
Пусть испытает все то, что судьба и могучие Парки
В нить бытия роковую вплели для него при рожденье".
Прядение (подобно пению) эквивалентно порождению и поощрению жизни. Отсюда вытекает толкование Шнайдера: "несчастливый — то плохой прядильщик, который оставил свой моток пряжи (т.е. свой продукт) сушиться на берегу реки и обнаружил, что его унесло" (51). Парки, подобно феям, являются пряхами. Множество подобных персонажей присутствует в легендах и в фольклоре..
У греков Уран связывает своих соперников. Он есть судьба. Тут же присутствуют силки Кроноса как проявление времени. Парки прядут и ловят в свои сети.
Личные судьбы вплетаются в у зор до тех пор, пока нить жизни не обрезают Мойры (в Риме — Парки, в Скандинавии — Нормы) — олицетворение Судьбы.
Однако «Мойры» - не единственное обозначение судьбы у греков. Например, Гомер употребляет более десятка выражений для обозначения судьбы (ведь и мы говорим: доля, судьба, участь, удел и т. д.). Мойры у него обычно сопровождалась эпитетами «злая», «пагубная». Из остальных выражений наиболее любопытно слово «айса», в котором можно усматривать судьбу, подвластную воле человека. Это уже звучит оптимистичнее: перед Мойрами человек бессилен, но вопреки Айсе человек действует скорее своевольно, подчиняясь гордыне или страсти, и эти действия нельзя считать неизбежными. В этом смысле можно понимать некоторые стихи у Гомера, например в знаменитой сцене прощания Гектора с Андромахой, в которой Гектор говорит дословно: «Вопреки Айсе никто не пошлет меня к Аиду; но, думаю, Мойры не избежит ни один человек, ни великий, ни низкий, коль он родился на свет». Однако во многих переводах Гомера на современные языки (в том числе и на русский) различие между М. и Айсой стирается, и оба выражения переводятся одним и тем же словом «судьба».
Греки представляли себе Мойр в виде серьезных старух. Клото обычно изображали с веретеном в руке, Лахесис - с меркой или весами, Атропос - с книгой жизни, солнечными часами или ножницами, которыми она перерезала нить жизни. Античных изображений Мойр сохранилось мало. Самое выдающееся из них находилось на восточном фронтоне Парфенона (было создано Фидием или, по крайней мере, его учениками), но в прошлом веке было увезено в Англию и теперь находится в Британском музее (см. также « »).
Известно выражение «нить жизни»: «…И покамест жизни нить/Старой там прядется…» - A.C. Пушкин, «Опытность»
(1814). Образ Мойр встречается в литературе: «[Гоголь] пал последнею жертвою той трагической мойры, которая тяготела… над русскими поэтами» - Ап. Григорьев, «0 комедии Островского».