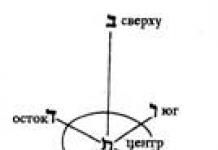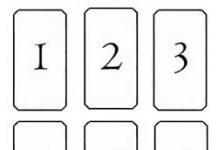Недавний интернетный обмен эссе между Александром Гордоном и Александром Баршаем на тему, является ли еврейским поэтом Осип Мандельштам, заставляет задуматься над вопросом: кого в принципе можно считать еврейским поэтом, писателем, деятелем культуры?
Понятно, запись в паспорте и даже наличие обрезания не свидетельствуют о принадлежности к еврейской культуре. Когда Иосиф Кобзон выводил своим мощным баритоном «Здравствуй, русское поле, я твой тонкий колосок», он песню Яна Френкеля на стихи Инны Гофф в лоно еврейской культуры не ввёл.
Думаю, нельзя сослаться и на язык. Это только усложнит проблему. Сейчас русский язык является родным более чем 20% евреев мира. На русском читают Маймонида, переведённого с арабского, пишут книги по иудаизму, и я знаю одну, Пинхаса Полонского, о религиозном сионизме рава Кука, которую перевели с русского на иврит и ввели в Израиле в курс школ. Сегодня на русском языке говорят и читают куда больше евреев, чем на идиш. Ещё сильнее запутывает проблему то, что многие группы израильских хасидов допускают использование иврита только для Б-гослужения и изучения священных текстов. А язык Древней Иудеи, арамейский, современными евреями в повседневной жизни вообще не используется.
Становится непонятным, почему один из диалектов немецкого, идиш, на котором говорит всё меньше людей, является еврейским, а русский, на котором общаются, читают и создают религиозную и светскую литературу миллионы евреев, еврейским не является.
Можно предположить, что отражение духовной жизни современных поэту евреев делает его поэзию еврейской. Эдуард Багрицкий в стихотворении «Происхождение» ярко описал свой уход от традиции евреев, характерный для многих его соплеменников-современников:
Я не запомнил - на каком ночлеге
Пробрал меня грядущей жизни зуд.
И детство шло.
Его опресноками иссушали.
Его свечой пытались обмануть.
К нему в упор придвинули скрижали -
Врата, которые не распахнуть.
Еврейские павлины на обивке,
Еврейские скисающие сливки,
Костыль отца и матери чепец -
Все бормотало мне:
- Подлец! Подлец!..
Поэт сделал вывод:
Отверженный! Возьми свой скарб убогий,
Проклятье и презренье! Уходи!
Как большая часть евреев его поколения, как сын рабби - «последний принц в династии» хасидских цадиков из «Конармии» Бабеля, Багрицкий ушёл в революцию. Ему принадлежит самое красивое революционное стихотворение в советской поэзии:
…Не погибла молодость,
молодость жива!
Нас водила молодость
В сабельный поход,
Нас бросала молодость
На кронштадтский лед.
Боевые лошади
Уносили нас,
На широкой площади
Убивали нас.
Но в крови горячечной
Подымались мы,
Но глаза незрячие
Открывали мы.
Возникай содружество
Ворона с бойцом -
Укрепляйся, мужество,
Сталью и свинцом.
Чтоб земля суровая
Кровью истекла,
Чтобы юность новая
Из костей взошла…
Я никогда не понимал, что это за «содружество ворона с бойцом»: ворон на трупе бойца или его жертвы?
Восславил Багрицкий еврея, покинувшего местечко ради ответственной работы командира продотряда, в своей поэме «Дума про Опанаса»:
…По оврагам и по скатам
Коган волком рыщет,
Залезает носом в хаты,
Которые чище!
Глянет влево, глянет вправо,
Засопит сердито:
«Выгребайте из канавы
Спрятанное жито!»
Ну а кто подымет бучу -
Не шуми, братишка:
Усом в мусорную кучу,
Расстрелять - и крышка!
Не мудрено, что «словно перепела в жите, Когана поймали». На расстреле командир продотряда держался молодцом. Всё же вызывает удивление мечта поэта:
Так пускай и я погибну
У Попова лога
Той же славною кончиной,
Как Иосиф Коган!..
Значимое совпадение: в том же 1926 году такой же конец придумал себе в стихотворении «Товарищу Нетте…» Маяковский: «Встретить я хочу мой смертный час так, как встретил смерть товарищ Нетте».
То была культура смерти и поклонения ей. В главной революционной песне большевики воспевали свою судьбу: «Смело мы в бой пойдём за власть Советов и как один умрём в борьбе за это». Умрут «за это» в 1937-м. Революционный экстаз Багрицкого, приведённый выше, взят из поэмы с соответствующим названием «Смерть пионерки». Да и Маяковский, написав поэму «Хорошо!», застрелился. Багрицкому повезло: он умер своей смертью 38 лет от роду в 1934 году. Его жену в 1937-м арестовали. В Караганде она ежедневно ходила отмечаться в контору НКВД на улице Багрицкого…
Красочную поэму об уходе евреев из гетто в «новую жизнь» - «Повесть о рыжем Мотэле, господине инспекторе, раввине Исайе и комиссаре Блох» - написал Иосиф Уткин.
При царе Мотэле «думал учиться в хедере, а сделали - портным». Впрочем, «по пятницам Мотэле давнэл, а по субботам ел фиш». Пришли Кишинёвские погромы: «Всего… Два… Погрома… И Мотэле стал сирота». Но тут подоспела революция: «Мотэле выбрил пейсы, снял лапсердак». Он сделал карьеру: «Вот Мотэле - он “от” и “до” сидит в сердитом кабинете. Сидит как первый человек». Ну, понятно, «и Мотэле не уедет, и даже в Америку».
Однако воспой «товарищ Уткин», как назвал поэта в своём стихе Маяковский, Мотэле не в 1925 году, а в 1937-м, тот наверняка пожалел бы, что в Америку своевременно не смотался.
Доброе слово местечку в довоенной еврейской литературе нашлось в рассказе Василия Гроссмана «В городе Бердичеве». В нём сталкиваются мир комиссарши, которой не удалось извести ребёнка и приходится рожать, и мирок еврея-рабочего Магазаника, заботливого отца большой семьи. «Товарищ Вавилова» оставляет новорожденного на евреев и идет дальше убивать врагов. Контраст между еврейской человеколюбивой моралью и новой коммунистической автору пришлось смягчить, хоть получилось - подчеркнуть, нелепым заключением: «Магазаник, глядя ей (комиссарше) вслед, произнес: “Вот такие люди были когда-то в Бунде. Это настоящие люди, Бэйла. А мы разве люди? Мы навоз”».
Как ни относились художники к миру местечка - с любовью к его человечности, как Гроссман, или отвергая, как Багрицкий и Уткин, - этот мир был обречён. Часть этого мира в начале ХХ века эмигрировала в Америку и трансформировалась в «янки», другая поднялась в Палестину воссоздавать Израиль, третья ушла в советские города. Оставшихся убил Гитлер.
Бард Александр Городницкий создал поэтичный фильм памяти мира местечек «В поисках идиш». В иных местечках, вырастивших в начале века гениев мирового масштаба, Городницкий мог найти лишь одного человека, понимающего идиш. И то нееврея. «Если умер язык, то, наверное, умер и народ, на нём говоривший?» - вопрошал бард.
Ситуация парадоксальная: стихи еврейских идишистских поэтов, убитых Сталиным 12 августа 1952 года, достояние еврейской культуры, канули в неизвестность. Евреи, читающие стихи, в массе не знают идиш, а знающие идиш хасиды не читают стихи светских поэтов. Популярны книги самого знаменитого идишистского писателя ХХ века, нобелевского лауреата Башевис-Зингера - но в переводах на английский, на русский, на иврит.
Однако народ, в начале ХХ века говоривший на идиш, и его культура не умерли. Их судьбу замечательно объяснил Мандельштам в эссе «Михоэлс», на которое ссылается Гордон: «Пластическая основа и сила еврейства в том, что оно выработало и перенесло через столетия ощущение формы и движения, обладающее всеми чертами моды - непреходящей, тысячелетней… Я говорю о внутренней пластике гетто, об огромной художественной силе, которая переживает его разрушение и окончательно расцветёт только тогда, когда гетто будет разрушено».

Я не согласен с тем, как понимает эту мысль Гордон: что «обособление народа прекратится, и он растворится в окружающей культуре». Евреи прошли через многие культуры, принимали и забывали разные языки и сейчас в Израиле вернулись к тому, на котором больше 33 столетий назад общались в пустыне со Всевышним. На всех этих языках евреи писали стихи. Благодаря «пластической основе и силе еврейства», позволившей «перенести через столетия ощущение формы и движения», о которой писал Мандельштам, евреи развивали в новом для них мире свою культуру, обогащавшую также местную для них в тот момент, и мировую культуру. Так, великая американская литература ХХ века - это в большой степени еврейская литература на английском. И книги Беллоу, Маламуда, Доктороу и других иллюстрируют мысль Мандельштама, что «еврею никогда и нигде не перестать быть ломким фарфором, не сбросить с себя тончайшего и одухотворённого лапсердака».
Поэтому мне представляется несправедливым утверждение Гордона: «Осип Мандельштам - большой русский поэт… Мандельштаму был не нужен еврейский народ. Еврейскому народу как таковому не нужен русский поэт Осип Мандельштам, искусственно присоединённый к нему в качестве национального поэта, творчество которого не внесло вклад в культуру еврейского народа». Национальным к народу поэта «искусственно» не присоединишь. Для этого он должен выражать квинтэссенцию народа или хотя бы части его. И Мандельштам её выражает.
Мне представляется, что Мандельштам - никакой не русский поэт. В нём я не вижу никакой русскости - ни в темах, ни в мировосприятии. И христианским его можно сделать, только насильно присоединив к нему, как делает Гордон, Пастернака - действительно русского и христианского поэта. Морально готовясь к подвигу публикации «Доктора Живаго», Пастернак в стихе «Гамлет» просто заговорил словами Иисуса из Евангелия: «Если только можно, Aвва Oтче, // Чашу эту мимо пронеси». Так ведь Борис Леонидович не лукавил, когда в знаменитом телефонном разговоре со Сталиным относительно арестованного Мандельштама в версии этого разговора, пересказанной поэтом сэру Исайе Берлину, он сказал, «что как поэты они совершенно различны, что он ценит поэзию Мандельштама. Но не чувствует внутренней близости с ней».
И действительно, Пастернак был патриотом России и Советского Союза, посвятил революции поэмы «Высокая болезнь», «Девятьсот пятый год», «Лейтенант Шмидт». Сэр Берлин рассуждал: «Пастернак был русским патриотом - осознание своей собственной исторической связи со своей страной было у него очень глубоким… Это страстное, почти навязчивое желание считаться настоящим русским писателем, с глубокими корнями в русской почве, особенно было заметно в отрицательных чувствах к собственному еврейскому происхождению». В отношении Пастернака к Сталину было замешано и восхищение.

В героическом же стихе Мандельштама гениально выражено чувство его величайшего омерзения относительно тирана:
Его толстые пальцы,
как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
Это стихотворение, кроме еврейской мятежности и авантюризма - Мандельштам не был самоубийцей, но рисковал, что среди людей, которым он прочёл стихотворение, не найдётся доносчика, - также знак космополитизма поэта. Большевики на процессах 1937 года соглашались с поклёпами на себя, поскольку считали, что своей покорностью они служат интересам СССР. Эти интересы, как Бухарин объяснял, предвидя свой арест, незадолго до него Борису Суварину, символизирует фигура Сталина. Для Мандельштама же и эти интересы, и Сталин, и страна, которую он символизировал, были омерзительны.
А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
А я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть.
Наглей комсомольской ячейки
И вузовской песни бойчей,
Присевших на школьной скамейке
Учить щебетать палачей.
И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья.
Здесь важен и ключ Иппокрены (так, с двумя «п», писал Пушкин). Мир для Мандельштама - не Россия (особенно советская). Упоителен его гимн космополитизму:
Я пью за военные астры, за всё,
чем корили меня,
За барскую шубу, за астму,
за желчь петербургского дня.
За музыку сосен савойских,
полей елисейских бензин,
За розы в кабине ролс-ройса,
за масло парижских картин.
Я пью за бискайские волны,
за сливок альпийских кувшин,
За рыжую спесь англичанок
и дальних колоний хинин…
Про то же в другом стихотворении:
Я молю, как жалости и милости,
Франция, твоей земли
и жимолости,
Правды горлинок твоих
и кривды карликовых
Виноградарей в их разгородках
марлевых.
Я не слыхал рассказов Оссиана,
Не пробовал старинного вина;
Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна?
В том же ряду и «К немецкой речи», и его Италия, и особенно Древняя Греция.
Сталин был прав: евреи в большинстве - нация космополитов. По крайней мере, были такими до воссоздания Израиля. Пересеките земной шар от Манитобы до Австралии и от Биробиджана до Чили, и вы везде встретите еврейские общины. А если их где-то нет, то это потому, что нас оттуда изгнали.
А что же с еврейской культурой? Благодаря «пластической основе и силе еврейства», о которых писал Мандельштам, мы обновляем свою культуру на новом месте.
О чем хочется бесконечно говорить с главным редактором журнала “Лехаим” и издательства “Книжники”? Конечно, о литературе!
Как сделать еврейскую культуру и литературу привлекательной для неевреев?
Мне кажется, что вопрос несколько запоздал. Еврейская культура в целом и литература в частности невероятно популярна сегодня и является частью европейской и мировой культуры. Тут как раз главный вопрос в том, что назвать еврейской культурой.
Если мы считаем таковой кухню, к примеру, то не стоит ждать, что люди XXI века будут есть фаршированную шейку, которая является продуктом очень бедной кухни. Если мы говорим о еврейской музыке, то стоит вспомнить огромный скачок популярности клезмерской музыки в разных странах, от Японии и до Финляндии. При этом в большинстве стран, где клезмер сегодня популярен, практически нет евреев. Когда мы говорим об американской литературе, мы вспоминаем Филипа Рота, который практически во всех своих произведениях говорит о еврейских темах. Именно поэтому он является представителем не только американской или мировой, а и еврейской культуры.
Если же мы говорим о традиционной еврейской литературе, то я как издатель могу сказать, что для нас совершенно неожиданным был невиданный интерес к нашим книгам. Не только к популярной литературе, а и к сакральным, классическим книгам, которые не соответствуют new-age. Тем не менее, основными покупателями наших книг являются не-евреи.
Поэтому вопрос не в том, можно ли это сделать, а в том, как этот интерес сохранить и не испортить впечатление. Нужно делать качественно, пользоваться наработками, существующими в мировой культуре. Если речь идет о музыке, то эта музыка должна быть хорошо написана и записана. Если о выставках, то эти музеи должны существовать по принципам современной музеологии. Нужно вписывать интересную еврейскую культуру в мировой контекст.

Еврейский музей в Москве приобрел свою популярность благодаря современности?
Несомненно. Нашей главной задачей было упаковать интересные и важные для нас вещи в формы, которые соответствуют последнему слову музеологии. Вы не можете делать современный информационный музей (а именно таким наш музей и задумывался), взяв за основу технологии XIX века. На наш взгляд, большинство еврейских музеев в мире в этом смысле отстали.
Еврейские музеи, которые не отстают в этом плане, это одни из лучших музейных институций в мире. Не в еврейском мире, а вообще. Я говорю о музее «Polin» в Варшаве, еврейском музее в Берлине и музее Холокоста Вашингтоне, Яд ва-Шеме. Наш музей является самым технологичным в Восточной Европе, если не считать наших главных друзей и конкурентов, «Polin». Для нас важны не только формы подачи информации и знания, которые мы хотим передать. Мы думаем о технологиях, о доступности и понятности для современного человека.
По каким критериям мы как евреи должны выбирать те части культуры, которые хотим показать миру? Или достаточно, чтобы это просто не было шароварщиной?
Китч как таковой является общей проблемой. Это касается и кинематографа, и литературы, и изобразительного искусства. Мир любит использовать невероятно упрощенный язык при разговоре на многие темы. Грубо говоря, Россия - матрешка, а евреи - «Хава Нагила». К сожалению, этот китч, который является следствием повышенного интереса к еврейской культуре, максимально используется. Это касается и так называемого еврейского юмора, и еврейской музыки, и темы Холокоста. Не важно, о какой теме мы говорим, китч будет присутствовать. Он является следствием интереса.
О китчевых темах можно говорить на самом высоком уровне, но и самые серьезные темы очень просто сделать популярным материалом. Я бы не стал ничего выбирать, речь идет скорее о способах и глубине дискурса.
Замечательный переводчик и писатель Асар Эппель называл людей, которые занимаются тем, о чем вы говорите, «хаванагильщиками еврейской культуры». Эта песня - прекрасный символ этого всего, но мы-то не сомневаемся, что о ней можно говорить серьезно. Нужно пытаться забрать у китча наиболее популярные темы и подавать их на более высоком уровне. Но нужно быть готовым к тому, что нечто, ставшее популярным, на каком-то этапе станет предметом китча. Это совершенно нормально, так существует культура и с этим нет смысла бороться.
Журналу «Лехаим» в этом году исполняется 25 лет, «Книжникам» - 8. Они популяризировали еврейскую литературу в русскоязычной среде. Повлияет ли эта популяризация на появление молодых русскоязычных еврейских писателей?
Это достаточно больная тема. Литература - это отражение жизни. Почему в Америке есть огромное количество еврейской литературы? Потому что американская еврейская жизнь - это не «американская запятая еврейская жизнь», а «американская еврейская жизнь», даже сорок лет назад. Поэтому есть Филип Рот, Сол Беллоу, Бернард Маламуд, которые выросли в еврейской тематике, хотят они того или нет. Рот посвятил большую часть своей жизни попыткам доказать то, что он не является еврейским писателем. На мой взгляд, у него ничего не получилось. Соответственно, для появления серьезной русскоязычной еврейской литературы должен появиться серьезный пласт людей, для которых русская еврейская жизнь существует не через запятую.
Есть очень хорошая новая волна молодых еврейских писателей - это ребята-эмигранты, которых увезли из разных городов бывшего Советского Союза. Они выросли в Канаде или Америке и описывают опыт русско-еврейско-американского молодого человека. Достаточно вспомнить такие имена, как Дэвид Безмозгис, Гарри Штейнгарт и так далее. Эта тема эксплуатируется молодыми американскими писателями, такими как Фоер, к примеру.

Что касается нас, наших осин, мне кажется, что физической массы людей, которые живут такой жизнью, еще нет. Есть ростки русско-еврейской литературы, есть Яков Шехтер и его брат Давид, еще тридцать лет назад написавший книгу о подпольной еврейской жизни Одессы в семидесятых годах. Есть молодые ребята, которые пишут похожие рассказы. Я бы выделил замечательную писательницу, киевлянку Инну Лесовую. Тот факт, что она мало известна широкой аудитории, многое говорит о широком читателе. Нельзя сказать, что этой литературы нет -ее просто очень мало, в Америке гораздо больше. Но больше именно потому, что литература - отражение жизни.
Писатели появляются там, где еврейство не является выбором, а продиктовано жизнью вокруг. Человек, который выбирает еврейство, часто отказывается от прошлой жизни. Литературные люди, пришедшие к иудаизму, как правило, перестают заниматься литературным трудом.
В Америке и Израиле появляются писатели, выросшие в ортодоксальных семьях. Им есть о чем писать, их произведения выходят из жил. Этим авторам остается только получить инструмент и описать то, чем они жили. Это похоже на процесс русско-еврейской литературы конца XIX-начала XX века, когда большие писатели выходили из очень еврейской среды. Нужен еврейский мир, которого не существует в данный момент.
Насколько появление этого мира реально в наших широтах?
Я не большой оптимист. Это до сих пор очень вымываемая часть общества, люди уезжают и начинают жить на других языках. Кроме того, я не вижу органичности. Есть какой-то слой, появилось большое количество людей, изучающих иудаику и живущих ею. Это люди довольно широкого круга, среди них есть потенциальные писатели. Трудно сказать, получится ли из них что-то. Но, повторюсь, этих людей недостаточно для критической массы, необходимой для гарантированного появления писателей.
Сотни тысяч людей выросли в еврейских кварталах Нью-Йорка или Бостона. Из этих сотен тысяч мы получили десяток важных имен. Вероятность появления крупных имен из органической еврейской среды людей, оставшихся жить в странах бывшего Союза, мне кажется невысокой.
Это непростой вопрос. Выдающийся переводчик и исследователь Шимон Маркиш посвятил этому вопросу целую книгу. Во многом именно он определил наше отношение к этому. В нашем издательстве есть большая серия «Проза еврейской жизни», в рамках которой вышло уже более 150 томов. Это самая большая русскоязычная серия, и не только среди еврейских книг. Наш принцип очень прост - книга должна быть прозой еврейской жизни, в ней должна описываться жизнь евреев.
Насколько эта еврейская жизнь является еврейской? Мне кажется, является. Еврей в диаспоре всегда не только гражданин своей страны, а еще и еврей. Это можно назвать «самостоянием». Именно это «самостояние» автоматически дает ту болевую точку, о которой вы говорите. Он не задумывается об этом, он пишет так.
Недавно я читал в журнале «Time» интервью актрисы Рейчел Вайс. Она сыграла в фильме «Отрицание», рассказывающем о процессе Деборы Липштадт против ревизиониста Холокоста. В интервью Рейчел замечает, что Дебора говорит на специальном бостонском еврейском языке. У нее спрашивают о том, что такое этот еврейский язык, на что она отвечает, что это талмудический акцент, знак вопроса в конце каждой фразы.
Дебора Липштадт может быть американским интеллектуалом, может царить над умами, может быть великолепным знатоком американского дискурса, но этот знак вопроса в конце у нее все равно будет. Это часть ее ментальности. Каким образом эта ментальность стала ее ментальностью? Сомневаюсь, что дело в генетике, это пахнет расизмом. А вот приобретение этой особенности от окружения кажется мне более вероятным. От друзей, от родственников, от родителей. Американский еврейский либеральный дискурс всегда очень еврейский по своей сути, если в него вчитаться. На месте Деборы может быть Синтия Озик, кто угодно, но знак вопроса будет. Не знаю, есть ли он у молодых американцев. Мне кажется, что он будет вымываться.

Насколько «Доктор Живаго» - еврейский роман? Настолько, насколько Пастернак еврей. Мне кажется, что пастернаковские метания и довольно антисемитские пассажи в этом романе по своей сути довольно еврейские. Они и есть той самой «болевой точкой». Если бы эту книгу написал не-еврей, то я бы сказал, что она антиеврейская. Нормальный человек, не рефлексирующий на эту тему, не будет останавливаться на том, что Гордон - еврей, ему это не важно. Ахматова рассказывала, что в ее среде не знали, кто является евреем, не было принято об этом спрашивать. Подозреваю, что евреи в ее среде прекрасно знали, кто из них евреи.
Гипотетически, есть еврейские писатели, которые пишут не-еврейские книги, как и наоборот. В серии «Проза еврейской жизни» вышел роман Элизы Ожешко, замечательной польской писательницы. Но правила, а не исключения, они такие.
КОММЕНТАРИИ
— наши любимые классики. Только вот в мировой детской литературе намного больше прекрасных писателей и поэтов с еврейскими корнями, чем мы привыкли думать. Книги каких авторов, помимо уже названных, можно поставить на детскую полку? Литературный обозреватель Лиза Биргер поделилась любимыми книгами, а редакция JewishNews добавила несколько своих.
Валери Нисимов Петров «Белая сказка»
Кто: Болгарский переводчик Валери Нисимов Петров (Меворах) родился в семье юриста, который стал представителем Болгарии в ООН, и учительницы французского языка. Несмотря на еврейское происхождение, он воспитывался в протестантской вере, в которую его родители перешли, когда он был еще совсем ребенком. Литературный талант в пареньке проснулся рано — уже в 15 лет он опубликовал свою первую поэму «Птицы на север». Образование он получил не литературное, а медицинское, и даже вел врачебную практику. Но слово победило скальпель.
После окончания Второй мировой Валери был назначен атташе по печати и культуре болгарского посольства в Италии, а в 1945—1962 годах был заместителем главного редактора сатирического журнала «Шершень». Петров писал свои книги и переводил чужие — благодаря ему на болгарском зазвучали произведения Редьярда Киплинга и Джанни Родари. О своем еврейском происхождении Валери никогда не забывал — и даже перенес эту любовь в творчество: среди его работ есть книга «Еврейские анекдоты».
Зачем читать: Книга для детей 4-5 лет «Белая сказка» с замечательными иллюстрациями (есть две версии оформления, и обе волшебные) рассказывает о том, «как зверята в зимнем лесу живут». Эту удивительную добрую сказку рассказал одному маленькому и очень любопытному олененку метеоролог, который наблюдал за приборами в горах. Увлекательный рассказ начинается с Песни о дружбе: Не случайно и не вдруг/ Говорится — «первый друг»./ Ибо первый ради друга/ Он готов пойти в огонь,/ Если другу будет туго./ Протянуть ему ладонь./ Позови — и сразу вот он,/ Лишних слов не говоря,/ Ради друга кровь прольет он./ «Первьй друг» — звучит не зря!».
Лев Квитко «В гости»
Кто: Удивительный поэт удивительной судьбы Лев Квитко родился в конце XIX века в местечке Голосков Подольской губернии (Хмельницкая область). Он рано осиротел, остался на попечении бабушки, немного проучился в хедере и еще ребенком начал работать.
Первые работы, которые Лев написал на идише, появились в печати, когда ему не было и 15. С середины 1921 года Квитко, который принял идеалы коммунизма, жил и публиковался в Берлине, затем переехал в Гамбург — там он был сотрудником советского торгпреда и продолжал печататься. Но, как водится, однажды в нем увидели врага. Его не пустили на фронт, так как посчитали, что в Германии он вел подрывную для советской власти деятельность, да и дружил не с теми. Но ему позволили стать членом президиума Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) и редколлегии газеты ЕАК «Эйникайт». И хотя Квитко позволяли проявлять себя на общественном поприще, он уже был обречен — в начале 1949 его арестовали в числе ведущих деятелей ЕАК, обвинили в измене родине и в 1952 году расстреляли.

Зачем читать: Лев Квитко писал лирику для детей, и все его стихи были на идиш. Его переводили Маршак, Михалков, Благинина и Светлов, и одним из таких сборников стал замечательный «В гости». Для многих эти стихотворения ассоциируются именно с именами их переводчиков, а вот автор, Квитко, оставался немного в тени. «Слыхали вы про кисоньку — про милую мою/ Не любит мама кисоньку, а я ее люблю!/ Она такая черная, а лапки — точно снег,/ Ну, всех она наряднее, и веселее всех!», «Анна-Ванна, наш отряд/ Хочет видеть поросят!/ Мы их не обидим:/ Поглядим и выйдем!» — эти и многие другие знакомые с детства строчки можно увидеть в сборнике «В гости». А иллюстрации к сборнику, особенно в издании 1962 года, это чистое искусство само по себе.
Что еще читать: Повесть «Лям и Петрик», одно из самых ранних произведений Квитко. Она была на написана в 1929 году. Писатель считал ее незаконченной и собирался дорабатывать, но не успел. Это произведение во многом автобиографично — история маленького еврейского мальчика Ляма перекликается с детством поэта и фоново описывает предреволюционные и революционные годы в Украине в начале прошлого века.
Ханс и Маргарет Рей «Любопытный Джордж»
Кто: Один из первых успешных писательских дуэтов с замечательной биографией: евреи из Германии, познакомившиеся в Бразилии, жившие в Париже с 1935 года и убежавшие от немцев за несколько часов до их прихода в Париж на велосипедах, собранных из запчастей. По легенде (иногда легенда бывает так хороша, что даже опровергать ее не хочется), практически единственным, что они успели захватить с собой, убегая из Парижа, была рукопись «Любопытного Джорджа» — как только супруги добрались до Нью-Йорка, рукопись оказалась в издательстве и стала в итоге одним из самых успешных книжных проектов века.

Зачем читать: Любопытный Джордж — маленькая обезьянка, которую ловит в Африке человек в желтой шляпе и привозит в Америку для счастливой жизни в зоопарке. Надо сказать, Джордж никак не сомневается, что жизнь его в зоопарке будет счастливой, но просто не хочет на этом останавливаться. Он — первый и главный на празднике непослушания, который в середине прошлого века был главной формой сопротивления всем ужасам времени. Но сегодня эта книга ничуть не менее любима детьми и понятна им: в конце концов, она об абсолютной свободе, которую безуспешно пытаются сдержать взрослые, и между прочим — об абсолютной любви.
Что еще читать: «Звезды. Новые очертания старых созвездий». Книга 1954-го года, в которой звездная карта и образы созвездий выглядят понятнее, чем в школьном курсе астрономии. Неудивительно, что ее до сих пор переиздают и недавно выпустили на русском языке в обновленном переводе: 1969-го года, когда книга впервые вышла в СССР, наши представления о космосе немного, но все же изменились.
Морис Сендак «Там, где живут чудовища»
Кто: Художник Морис Сендак всю свою жизнь посвятил детской книге — и хотя в его золотой канон входят всего четыре-пять книг, он вполне справедливо считается одним из главных детских авторов прошлого века. Рожденный в семье еврейских эмигрантов из Восточной Европы, Сендак вместо сказок на ночь в детстве слышал рассказы о своих погибших в Холокосте кузенах — и стоит ли удивляться, что искусство его в итоге было весьма специфическим. Но самое главное — он был и до конца оставался совсем ни на кого не похожим. Дети у него хулиганят, прыгают голыми, переодеваются в чудовищ, а взрослые, отрастив огромные когтищи и вытаращив огромные глазищи, пытаются их скушать. Невероятная популярность книг Сендака — все новое поколение наших культурных героев выросло на его книгах — доказывает, что детей он действительно понимал лучше всех взрослых.

Зачем читать: «Там, где живут чудовища» — единственная из главных книг Сендака, переведенная у нас, — история мальчика Макса, который устроил дома большой шурум-бурум, а когда мама отправила его в комнату спать без ужина, в этой комнате вырос целый новый мир и Макс отправился по океану в гости в страну чудовищ. Сендак — настоящий большой художник, мир чудовищ так здорово переосмыслен здесь и подан, что в какой раз ни читай, а путешествие в страну чудовищ снова оказывается сильнейшим переживанием. В том числе и терапевтическим — читая эту книгу вместе с ребенком, как будто проходишь с ним через ту, наиболее непростую, часть детской игры, когда непонятно, кто именно превращается в настоящее чудовище: ребенок или его разъяренная мама. К концу книги оба могут снова почувствовать себя обычными, слегка уставшими людьми.
Что еще читать: Элси Хоумланд Минарик «Медвежонок». Художник Морис Сендак. Первая — еще до "Чудовищ" — художественная удача Сендака, камерные и невероятно нежные истории о Медвежонке и его маме в фартучке — тоже американская классика.
Эрик Карл «Очень голодная гусеница»
Кто: Самый главный в мире автор для малышей, и точка. Величие Эрика Карла вряд ли требует доказательства, но знайте, например, что у него даже есть прижизненный музей в Массачусетсе, который заслуженно считается американским центром детской книжки-картинки с прекрасными выставками и образовательными проектами. На книжках Эрика Карла выросло не одно поколение взрослых, и в последние годы его любимые произведения вроде «Очень голодной гусеницы» и «Мишка, бурый мишка, кто там впереди» одно за одним отмечают пятидесятилетие. Что тут добавить — долгая лета.

Зачем читать: Эрик Карл во многом предвосхитил современную озабоченность родителей ранним образованием детей, его книги всегда не просто красочны, а учат много чему одновременно. По «Мишка, бурый мишка, кто там впереди» ребенок изучает цвета и названия животных, по «Грубиянке в крапинку» учится определять время и сравнивать размеры, а книги вроде «Голубого конька» вообще революционным для книги-картонки образом помогают узнать, как размножаются разные виды рыб: "беременный" морской конек плывет по морю, общаясь с другими отцами об их потомстве. Фантастика! Ну и, конечно, куда же без «Очень голодной гусеницы» — тут и счет, и мелкая моторика (книгу надо читать со шнурочком, играть им в «гусеницу» и продевать в окошки-дырочки, съедать вместе с героиней этой книги яблоки и сливы), и первое знакомство с чудесами природы в виде волшебного превращения гусеницы в бабочку в финале.
Шел Сильверстайн «Щедрое дерево»
Кто: Американский поэт, карикатурист, музыкант и вообще человек множества разносторонних талантов — среди прочего, он перепел «Гамлета» в рэпе, объехал весь мир по заданию журнала Playboy, собрав свои путевые заметки и рисунки в сборник карикатур-травелогов, и сам нарисовал мультфильм по «Щедрому дереву» Легенда гласит, что в детскую книгу его затащила Урсула Нордстрем, легендарный гениальный редактор, которой Америка буквально обязана своей детской литературой. Сам Сильверстайн говорил, что его уговорил другой великий детский иллюстратор, швейцарец Томи Унгерер. Точно одно: его книги-притчи, и прежде всего, конечно, «Щедрое дерево», были изданы миллионными тиражами и стали абсолютной мировой классикой.

Зачем читать: «Щедрое дерево» — историю о яблоне, которая давала всю себя маленькому мальчику, и отдавала все больше и больше, пока не отдала себя всю целиком — можно читать как тысячу разных историй: о жертвенности, о материнской любви, о христианской любви и так далее. И видеть здесь тысячи разных ответов: возмущаться, сочувствовать, негодовать. Такое бесконечное упражнение в чтении и понимании, ценное уже само по себе. И два слова про иллюстрации: хотя во всем мире Сильверстайна читают только в его собственном, слегка наивном, карандашном исполнении, на русский его впервые перевели в 80-х с картинками Виктора Пивоварова. Прочтение сказки у Пивоварова получилось немного более светлое, чем у самого Сильверстайна. Здесь есть гармония, которая в оригинальном издании вовсе не очевидна, ну и сами его иллюстрации (возникшие, как всегда, потому, что никто в Советском Союзе не думал соблюдать авторские права) — сегодня настоящий раритет.
Что еще читать: Книги Сильверстайна «Продается носорог» или «Полтора жирафа» совсем не похожи на «Щедрое дерево», это увлекательная, стремительная, довольно бессмысленная и очень веселая игра в рифмы. А сам он своей любимой книгой называл «Лафкадио, или Лев, который отстреливался» — про льва, который умел стрелять, и из джунглей попал прямо на арену цирка, стал суперзвездой, почти очеловечился, а счастья не нашел.
На снимках - те, о ком пойдет речь.
Нина Катерли. Эфраим Севела. Морис Симашко.
Почему именно о них - попробуем разобраться.
Что не просто. Ибо, решив написать о еврейских писателях, сразу понял, что не в состоянии четко определить это понятие кроме как исключительно интуитивно.
Оставим Шолом-Алейхема, Ицхака Мэраса и Григория Кановича. Они - еврейские писатели, потому что они - еврейские писатели. А то что Ицхак Мэрас писал на литовском - ничего не меняет.
Также знаю, шестым чувством видимо, что еврейский писатель не обязан быть алахическим евреем. И не обязан писать исключительно на еврейские темы.
А что обязан?
Сказать "чувствовать принадлежность к еврейскому народу" - слишком размыто...
Сказать "обладать еврейской душой" - ещё непонятнее.
Сплошные проблемы...
Кто в таких случаях приходит на помощь? Правильно - википедия. Набираю в гугле: «еврейские писатели» и сразу же натыкаюсь... нет - не на одноименную статью, а на «Обсуждение категории Еврейские писатели ». Это меня несколько ободряет. Видимо, не один я столкнулся со сложностями определения изучаемого объекта. Читаю. Вижу что обсуждение было весьма активным, нужные вопросы были заданы, но ответы на них получены не были и критерии «еврейского писательства» так и остались размытыми. А без критериев - куда? Как правильно и не без чувства юмора заявили вики-авторы: «Включаешь Жаботинского в еврейские писатели — будь любезен пояснить, на каких основаниях - чтобы было ясно, что это не досужие домыслы и дело не в происхождении и проч. » Соглашаюсь - глупо писать статью о еврейских писателях коль скоро нет разумения - кто они. По этой причине, видимо, и записали авторы википедии раздел о еврейских писателях в кандидаты на удаление. Но - обошлось. После еще одного обсуждения этого вопроса вики-авторами было принято мудрое решение - раздел о еврейских писателях оставить, несмотря на отсутствие четких критериев принадлежности к оным. Также было решено оставить и само обсуждение этой категории, которое, по моему, не менее ценно чем сама категория. Например, один из самых убедительных доводов против удаления "еврейских писателей" из википедии было такой: «Не надо быть антисемитами».
В таких вот муках и родилась вики-статья «Еврейские писатели », которая вынесла следующий вердикт: еврейские писатели это писатели создававшие литературные произведения на любых языках, если они относятся к еврейской литературе авторитетными источниками .
Ну, слава Б-гу, разобрались. Только теперь вместо одного вопроса перед нами - два. (1) Что есть еврейская литература и (2) что есть авторитетный источник? Кого нам в помощь? Ту же википедиию, естественно. По мнению которой еврейская литература это ни что иное как корпус литературы, являющей собой литературное воплощение специфически еврейского жизненного опыта .
Спасибо - яснее не скажешь. Осталось только разобраться с (а) корпусом, (б) воплощением и (в) со специфическим еврейским опытом . Ну и про (д) авторитетные источники , которым та же википедия посвятила целое исследование, конечно же не забыть.
В этом месте читатель (если конечно он дочитал до этого места) скорее всего обвинить автора в умышленном подлоге: собрался писать о еврейских писателях - пиши, а не увязай себя и других в трясине определений, категорий и прочих понятий.
Я бы - с удовольствием, но... как же без критериев?
Противоречие...
Разрешим его следующим образом.
Еврейской литературой я назову ту, которую мне довелось прочитать и которую я посчитал еврейской. В авторитетные источники запишу самого себя. И попробую втолковать читателю, почему выбранные мною личности - еврейские писатели в моем понимании.
РУ́ССКО-ЕВРЕ́ЙСКАЯ ЛИТЕРАТУ́РА, художественное и публицистическое творчество на русском языке писателей-евреев, отражавших еврейскую жизнь с позиции самоидентификации со своим народом. Русско-еврейская литература - одна из составных частей еврейской словесности нового времени (начиная с эпохи Х аскалы) как на собственно еврейских языках и диалектах , так и на языках окружающего большинства.
Принадлежность литератора к русско-еврейской литературе (как и к другим подобным литературам - немецко-еврейской, американо-еврейской и т. д.) определяется следующими признаками:
- Свободный выбор своей национально-культурной принадлежности, ведущий к национальному самосознанию.
- Укорененность в еврейской цивилизации, органическая связь с ней и как следствие - естественное обращение к еврейской тематике. При этом, каким бы ни было отношение писателя к материалу, его взгляд - это всегда взгляд изнутри, что и составляет основное отличие еврейского писателя от нееврейского (вне зависимости от его этнического происхождения), обращающегося к еврейскому сюжету.
- Социальная репрезентативность, то есть способность писателя быть голосом общины в целом или существенной ее части. Писатели и публицисты, порвавшие с национальной общностью (будь то в религиозно-обрядном или национально-культурном отношении; см. Отступничество) и не выражавшие солидарности с нею, не принадлежат к русско-еврейской литературе, даже если их творчество было посвящено еврейской тематике (например, публицистика Я. Брафмана , драматургия и проза С. Литвина-Эфрона /1849–1925/ и т. п., бывшие по сути откровенным доносительством /см. Доносчики / на еврейство).
- Двойная принадлежность к русской и еврейской цивилизациям (этот признак характерен для 20 в.), означающая, среди прочего, что творчество писателя в равной степени принадлежит двум народам.
В силу особенностей развития Х аскалы в России «эмбриональный» период русско-еврейской литературы растянулся более чем на полстолетия. Первая печатная книга, которую можно отнести к русско-еврейской литературе, - «Вопль дщери Иудейской» (СПб., 1803) И. Л. Неваховича - включала три риторических произведения, часть из которых была написана на русском языке, другая была авторским переводом с иврита, как и его неопубликованная ода на восшествие на престол императора Александра I (март 1801 г.). Невахович впервые на русском языке изложил набор типичных для маскилим стереотипов, но ему недоставало как дарования, так и знания русского языка, а главное, у него не было и не могло быть еврейского читателя. Не был литературно одарен и второй по времени русско-еврейский литератор Леон Мандельштам , чей ученический сборник «Стихотворения» (М., 1840) также в основном был первоначально написан на иврите, а затем переведен автором на русский язык. Мандельштам сыграл значительную роль в истории просветительства российского еврейства, ему принадлежит не только первый из выполненных евреями переводов Пятикнижия на русский язык («Тора, то есть Закон, или Пятикнижие Моисеево», Берлин, 1862), но и первый перевод А. Пушкина на иврит (1847). Историко-культурный, а не собственно литературный интерес представляют «Мысли Израильтянина. В 2 частях. Сочинение Еврея Абрама Соломонова» (Вильно, 1846). А. Соломонов (1778, Минск, - ?) был убежденный маскил и занимался переводами с иврита на русский и польский. В духе Х аскалы составлено и его сочинение, обращенное к евреям (в отличие от «Вопля дщери Иудейской», обращенного к русскому просвещенному читателю) и убеждающее их, что ни Талмуд , ни раввинистическая литература не запрещают знакомства с языком окружающего большинства и последними достижениями цивилизации.
Эта зарождавшаяся литература (как частично и последующее творчество русско-еврейских писателей) не была свободна от апологетичности и самоцензуры. Ш. Черниховский писал в статье «Русско-еврейская художественная литература»: «Посвящая свои произведения своему народу, еврей-писатель не забывал, что его читатель находится не только в этой среде, но также и в окружающем обществе, и поэтому он взвешивал каждое свое слово из боязни, чтобы его не поняли превратно, нередко он увлекался апологетическим пылом...» («Еврейская энциклопедия», в 16-ти томах, СПб., т. 13, кол. 641).
Подлинным основоположником русско-еврейской литературы стал О. Рабинович , первые публикации которого на русском языке (переводы, публицистика, проза) относятся к концу 1840-х гг. Рабинович принадлежал ко второму поколению российских маскилим , ориентировавшемуся не на родину Х аскалы - Германию, а на Россию; главным языком культуры для этого поколения был уже не немецкий, а русский. Созданное в 1860 г. Рабиновичем совместно с литератором и общественным деятелем И. Тарнополем (1810–1900) первое еврейское периодическое издание на русском языке, еженедельник «Рассвет» , могло опереться на свою читающую публику - пока еще малочисленную русско-еврейскую интеллигенцию. Творчество Рабиновича не только отражало его собственное развитие, но и предвосхищало тот путь, который предстояло пройти литературе российского еврейства (не только на русском языке, но и на идиш и иврите): от убежденного ассимиляторства и русификаторства к сомнениям в разумности и плодотворности безоговорочного российского патриотизма и безответной страсти к сближению с «коренным населением»; от непримиримо враждебного отношения к «жаргону» (язык идиш) к опытам литературной фиксации фольклорного материала (песен, поговорок), попыткам передачи интонации, синтаксиса и идиоматики идиш средствами иного языка (тут Рабинович оказался предшественником не только австро-еврейского писателя К. Э. Францоза , которого много переводили и усердно читали российские евреи, но и всей плеяды американо-еврейских писателей 20 в.). Рабинович применил главный содержательный принцип русско-еврейской литературы и публицистики, который сохранял свое значение более двух десятилетий: бороться на два фронта - обороняться от нападок врагов и критиковать собственные пороки. Рабинович открыл приемы, образы, тональность, отношение автора к предмету, которые позже сделались приметами еврейского литературного творчества в целом. В повести «Штрафной» («Русский вестник», 1859, №1), пользовавшейся необыкновенным успехом в еврейских читающих кругах и привлекшей некоторое внимание русской публики, писатель впервые попытался показать еврейский характер в специфически еврейской ситуации периода гонений Николая I. Открытие еврейских характеров продолжается и в следующей повести «Наследственный подсвечник», входящей, как и предыдущая, в цикл «Картины прошлого» («Рассвет», 1860, №1–8); хотя материал ее тот же (евреи на царской службе, в николаевской армии), диапазон характеров намного расширен и, главное, меняется рассказчик - патетика сменяется иронией (а ирония - сильнейшая сторона таланта Рабиновича). В отличие от этих двух повестей, показывающих еврея в соприкосновении с окружающим большинством, последнее художественное произведение Рабиновича - «История о том, как реб Хаим-Шулим Фейгис путешествовал из Кишинева в Одессу и что с ним случилось» (Одесса, 1865) - была своего рода возвращением в гетто: еврейская жизнь рассматривалась сама по себе, взором хотя и критическим, ироническим, но полным сочувствия. Это резко отличает Рабиновича от последовательных и непреклонных маскилим типа И. Б. Левинзона и их преемников, беспощадно обличавших местечко , и делает его прямым предшественником Шалом Алейхема . «Хаим-Шулим...» как художественное произведение близко по мысли и чувству «Автоэмансипации» Л. Пинскера , написанной гораздо позже; это возвращение к себе, в собственный дом, как бы ни был он непригляден для просвещенного взора, - другого нет и быть не может, и еврейский писатель открывает источник вдохновения в еврейской «массе» со всеми ее предрассудками, темнотой и непричастностью к русской и европейской культуре. Невыносимая убогость ее существования преображается силой беззаботного смеха «человека воздуха» (предвосхищавшего героя Шалом Алейхема) в карнавальное шутовство, но через поверхностный юмор ситуаций пробивается уже юмор характеров, свойственный всем новым еврейским литературам.
Многие сотрудники Рабиновича по «Рассвету» заняли видное место в истории русско-еврейской литературы. Л. Леванда четверть века был ведущим и самым известным русско-еврейским публицистом; он сумел после погромов 1881–82 гг. отречься от ассимиляторских иллюзий и присоединиться к палестинофильству (см. Ховевей Цион), выдвинул новые лозунги: «самосохранение» и «самопомощь». В творчестве Леванды публицист решительно подавлял художника. Уже А. Волынский , первый в русско-еврейской литературе значительный литературный критик, заметил художественные недостатки произведений Леванды, а бесспорную популярность его у русско-еврейского читателя объяснял особой чуткостью писателя к злобе дня, а также сложностями и противоречиями начальной эпохи выхода из гетто, когда зарождавшаяся русско-еврейская интеллигенция теряла ориентиры и перспективу и, по российскому обыкновению, обращалась к писателю как к учителю жизни, и писатель Леванда смело давал советы, чаще всего недальновидные, но всегда искренние и бескорыстные, всегда отвечавшие чаяниям общества. Так, самое знаменитое произведение Леванды, роман «Горячее время» (1871–73), изображает польское восстание 1863–64 гг.; по замыслу и манере письма это роман сугубо реалистический, если не прямо бытописательский, как большинство рассказов, повестей и очерков Леванды, хотя в нем нет ни живых образов, ни правдоподобных ситуаций, ни органически развертывающейся фабулы, зато есть решительный ответ на вопрос, сохранявший свою остроту в 1860–1870-е гг.: что делать еврею, вставшему на путь просвещения и осознавшему свое оскорбительное неравноправие? Автор призывает ассимилироваться, вкладывая этот призыв в уста главного героя, который сознательно и до конца предпочел Россию, новую родину, Польше, стараясь и надеясь превратиться в полноценного русского гражданина. Чем свободнее бытописательские зарисовки Леванды от тенденциозности, тем они лучше литературно, например, «Четыре гувернера с сосенки и с бора» (из серии «Очерки прошлого», «Русский еврей», 1879, №2–7) или «Яшка и Йошка» («Восход» , 1881, №9–11). Особняком стоит группа сатирических произведений, создававшихся под очевидным воздействием М. Салтыкова-Щедрина; наиболее удавшиеся среди них - отрывок из романа «Поход в Колхиду» («Еврейская библиотека», 1879, т. 7; полностью роман никогда не был напечатан) и роман «Исповедь дельца» (1880), оба о беспорядочном и беспардонном грюндерстве. Лучшие публицистические циклы, которые обнаруживают самые сильные стороны таланта Леванды, - «Летучие заметки недоумевающего» («Рассвет», 1882) и примыкающие к ним «Летучие мысли недоумевающего» («Недельная хроника «Восхода», 1882), «Скромные беседы о прошлогоднем снеге» («Недельная хроника «Восхода», 1885, №13–21), их продолжение - три передовые статьи в том же еженедельнике (№29–31) и, наконец, статья «Об ассимиляции» (там же, №37–38) - своего рода общественное и политическое завещание писателя. Леванда, наряду с Рабиновичем, с полным правом считался зачинателем русско-еврейской литературы. Почти через 30 лет после его смерти в одном из русско-еврейских журналов можно было прочесть: «Среди еврейских литераторов эпохи «гасколы», писавших на русском языке, самое видное место занимает Лев Осипович Леванда» («Колосья», 1915, №7). Еще при жизни Леванды возникла мысль издать полное собрание его сочинений («Недельная хроника «Восхода», 1886, №41; письмо к редактору А. Волынского и С. Фруга), впоследствии она возникала в связи с различными памятными датами, однако до сих пор наследие Леванды остается несобранным и неизученным.
Среди других известных сотрудников «Рассвета», внесших значительный вклад в русско-еврейскую публицистику, были издатели-редакторы пришедшего ему на смену еженедельника «Сион» (1861–62): Л. Пинскер, врач и общественный деятель Э. Соловейчик (умер в 1875 г.) и физиолог Н. Бернштейн (1836–91), а также М. Моргулис , А. Гаркави , А. Ландау . Сравнительно мало известны другие деятели русско-еврейской литературы, в той или иной степени связанные с «Рассветом»: юрист И. Гальберштадт (1842–92), многолетний заведующий «еврейским столом» Одесской городской думы Б. Бертензон (1815–71), юрист и профессиональный журналист П. Лякуб (умер в 1891 г.), преподаватель русского языка в Одесском еврейском училище И. Френкель, чьи переложения талмудических легенд напечатал посмертно его сын, утверждавший в предисловии к публикации, что автор был «первый еврей, печатно заговоривший по-русски» («Рассвет», 1861, №33). О единстве многоязычной еврейской культуры России говорит тот факт, что в первое русско-еврейское периодическое издание посылали свои написанные по-русски корреспонденции известные писатели и публицисты, писавшие на иврите (см. Иврит новая литература) Х. З. Слонимский и И. Л. Гордон .
Третий одесский еженедельник «День» (1869–71), который считал себя прямым продолжением «Рассвета» и «Сиона», ввел в русско-еврейскую литературу ряд новых имен: И. Оршанский , М. Кулишер (см. Кулишер, семья), А. У. Ковнер , историк российского еврейства и литературный критик С. Станиславский (1848–?), педагог и литератор И. Варшавский (1832–1903). В редактировании журнала участвовал П. Левенсон (1837–94), юрист и первоклассный очеркист, талант которого развернулся в полную силу в 1880-е гг., главным образом в петербургском «Восходе». По сравнению с периодом начала 1860-х гг. заметно возросло мастерство в сфере саркастической полемики (например, цикл фельетонных хроник М. Кулишера «Недельные очерки», 1870–71; подписаны инициалами М. К.).
В стороне от одесского центра русско-еврейской литературы развивалось творчество Г. Богрова , принадлежавшего к тому же литературному поколению, что Рабинович и Леванда. Его первое, самое известное произведение, автобиографический роман «Записки еврея» (написан в 1860-е гг.), увидел свет в 1871–73 гг. в русском столичном журнале «Отечественные записки». Русская публика и русская критика отнеслись к роману с интересом: впервые русскому читателю была представлена широкая и детальная (около тысячи печатных страниц) панорама еврейской жизни с почти этнографическими разъяснениями в основном тексте и в многочисленных авторских примечаниях. Записки пропитаны характерной для маскилим крайних взглядов ненавистью к традиционному еврейскому быту, нравам, складу мышления. Фанатический накал ненависти так велик, что антисемиты в те времена и позже ссылались с сочувствием на Богрова, а евреи упрекали его в клевете. Упреки несправедливые: тенденция у Богрова совершенно та же, что у Леванды, однако сверхдоктринерская узость взора часто доводит автора до слепоты, часто, но не всегда: герой-рассказчик спрашивает себя: «Кто виноват в моих бедствиях?» - «...Прежде всего, я сам виноват: я - еврей! Быть евреем - самое тяжкое преступление; это вина, ничем не искупимая; это пятно, ничем не смываемое;... это каинский знак на челе неповинного, но осужденного заранее человека. Стон еврея ни в ком не пробуждает сострадания. Поделом тебе: не будь евреем. Нет, и этого еще мало! Не родись евреем!» Но тогда все усилия маскилим -ассимиляторов безнадежны. Художественное дарование Богрова, достаточно скромное само по себе, было раздавлено грубой тенденциозностью. Однако творчество Богрова, бытописателя и документалиста, сейчас, когда изображенный им мир безвозвратно исчез, намного более ценно, чем 100 лет назад. Богров как автор и редактор значительно способствовал оживлению русско-еврейской периодики в конце 1870-х - первой половине 1880-х гг. Несмотря на его крайне критическое отношение к традиционному иудаизму и сочувствие радикальным реформаторским идеям и деятельности Я. Гордина , принятие им православия в конце жизни было вызвано не идейными, а чисто личными соображениями - желанием узаконить фактический брак. Взгляд Богрова на уход от еврейства, сформулированный в письме к Леванде (1878), предвосхищает позицию многих русских интеллигентов еврейского происхождения в более позднюю эпоху: «Если бы евреи в России не подвергались таким гонениям и систематическому преследованию, я бы, быть может, переправился на другой берег, где мне улыбаются другие симпатии, другие идеалы. Но мои братья по нации, вообще четыре миллиона людей, страдают безвинно, ужели порядочный человек может махнуть рукой на такую неправду?» («Еврейская библиотека», 1903, т. 10).
В 1870-х гг. центр русско-еврейской литературы переместился из Одессы в Петербург. В 1871–73 гг. выходил (нерегулярно) еженедельник «Вестник русских евреев», однако вклад его как в публицистику, так и в художественное творчество невелик. Напротив, издание «Еврейской библиотеки» (издатель-редактор А. Ландау) стало важным этапом в развитии русско-еврейской литературы, хотя с 1871 г. по 1880 г. вышло всего восемь томов «историко-литературных сборников», как значится на титульном листе (тт. 9–10 вышли в 1901–1903 гг.). Направление сборников - то же, что и в трех одесских периодических изданиях: просвещение, ассимиляция, русификация; основной состав авторов - Леванда, Богров, Кулишер, Ландау, Моргулис, Оршанский, то есть «шестидесятники». К ним принадлежал и В. Никитин ; несмотря на то, что художественные достоинства его произведений скромны, для русско-еврейской литературы его сочинения весьма знаменательны. Хотя он был крещен в детстве, и разрыв с еврейством был полным (настолько, что его подлинные имя и фамилия неизвестны), в 1871 г. в «Отечественных записках» (в том же году в журнале появились и первые главы «Записок еврея» Богрова) он неожиданно опубликовал очерк о кантонистах под названием «Многострадальные» (до этого он печатал только работы по юридическим вопросам). Это - первое произведение русско-еврейской литературы, целиком посвященное институту кантонистов, еврейское не только по материалу, но и по взгляду на материал. В «Еврейской библиотеке» Никитин напечатал два больших рассказа (т. 4, 1873; т. 5, 1875), сотрудничал и в журнале «Восход». Его сочинения на еврейскую тему выходили отдельными изданиями. Никитину принадлежат также капитальные труды по истории еврейских земледельческих колоний в России, над которыми он работал, имея по служебному положению доступ к архивам министерства земледелия. Судьба Никитина - один из первых примеров того, как писатель отдаляется от еврейства и приближается к нему, как в творчестве одного человека сочетаются начала еврейские и никакого отношения к еврейству не имеющие. В «Еврейской библиотеке», а затем и в «Восходе» активно сотрудничал и П. Вейнберг (также принял христианство в юности), публикуя на их страницах как оригинальные произведения, так и переводы.
Конец 1870-х гг. ознаменовался резким подъемом активности еврейской прессы: в 1879 г. в Петербурге открылись два еженедельника - «Рассвет» (1879–83) и «Русский еврей» (1879–84). Одной из внешних причин этого подъема был рост общественного антисемитизма в Центральной Европе и в самой России (отчасти в связи с русско-турецкой войной 1877–78 гг.), свою роль сыграло увеличение числа читателей, то есть евреев, освоивших русский язык, как в черте оседлости, так и за ее пределами. Неслучайно оба эти еженедельника продержались намного дольше, чем их одесские предшественники, а «Восход», появившийся в 1881 г., просуществовал четверть века и был самым долголетним изданием в русско-еврейской периодической печати.
Рубеж между первым, просветительско-ассимиляторским, и вторым, национально ориентированным, периодом русско-еврейской литературы проложили погромы 1881–82 гг. Основные мотивы нового периода, охватывающего 1880-е гг. и большую часть 1890-х гг., - горечь утраченных иллюзий и возврат к ценностям патриархальной жизни в гетто (возвращение на «еврейскую улицу»). Переход к новому периоду начался еще в рамках первого литературного поколения (последняя повесть Рабиновича, поздняя публицистика Леванды). Несмотря на изменение направления (так, «Рассвет» из проповедника обрусения превратился в орган палестинофильства), в русско-еврейской литературе не было конфликта «отцов и детей», как не было и полного отказа от просветительских идей ассимиляторства - в понятии «русский еврей» первая половина оставалась не менее важной, чем вторая. Первое литературное поколение выступало с новыми публикациями. Вскоре приобрели широкую известность и литераторы следующего поколения: М. Бен-‘Амми , С. Дубнов , А. Волынский, С. Фруг, Н. Минский , И. Л. Б. Каценельсон (под псевдонимом Буки бен-Иогли), И. Л. Кантор (под псевдонимами Бен-Баг-Баг, Лев Иври), А. Я. Паперна (его первые публикации на иврите относятся к началу 1860-х гг.) и многие другие. Литературные судьбы их в дальнейшем сложились по-разному: в то время как одни остались в русско-еврейской литературе, другие ушли в словесность собственно русскую, в литературу на идиш и на иврите.
В первой половине 1880-х гг. окончательно сложились жанровые, стилистические, содержательные характеристики русско-еврейской литературы: преобладание публицистического (дидактического, апологетического) элемента во всех жанрах (особенно в литературной критике), развитое сатирическое направление. Поэзия оставалась слабой и за первые 20 лет своего существования не дала ни одного заслуживающего упоминания имени. В 1880 г. в «Еврейской библиотеке» (т. 8) было опубликовано стихотворение, свидетельствовавшее о таланте автора, - «Ошейник» М. Абрамовича (1859–1940; см. Менделе Мохер Сфарим). Талант этот, однако, не развился, а скорее деградировал в многочисленных композициях на библейские сюжеты; в конце 1880-х гг. Абрамович окончательно оставил и поэзию, и еврейство. Возможно, именно из-за бедности русско-еврейской поэзии важным событием стали публикации С. Фруга, выступившего в 1879 г. в «Рассвете». Фруг очень быстро завоевал широкое признание, сделался еврейским национальным поэтом не только для переходившей на русский язык ассимилированной интеллигенции, но и для «массы», не имевшей кроме идиш иного средства общения и культурного самовыражения, а также для будущих классиков новой поэзии на иврите Х. Н. Бялика и Ш. Черниховского. Мучительные, острейшие реалии Фруг облекал в обветшавшие романтические слова и образы (впрочем, как и большинство других поэтов так называемой эпохи безвременья), однако современники этого не замечали - их подкупала злободневность и небывалая до того в еврейской поэзии на русском языке певучесть. Постоянно нуждаясь в заработке, он писал слишком много и слишком поспешно.
По уровню поэтического мастерства историческая драма в стихах Н. Минского «Осада Тульчина», напечатанная в «Восходе» (1888), стоит выше произведений Фруга (правда, вклад Минского в русско-еврейскую поэзию «Осадой Тульчина» и ограничивается). Более весом вклад Минского в русско-еврейскую публицистику - около десяти полемических статей и фельетонов в «Рассвете», которые повлияли на развитие важнейшего в русско-еврейской литературе жанра фельетона (так в то время называли любые публицистические статьи). Некоторые статьи Минского сохранили свое значение и по сей день, например, «Письмо г. Незнакомцу» («Рассвет», 1880, №10 - полемический ответ на «письмо» «Жид идет!» в «Новом времени» А. С. Суворина). Чуть позже (1881) фельетоны начал писать Фруг, работавший в этом жанре до конца жизни. Фруг был плодовитым, однако неровным журналистом; по содержанию среди его фельетонов есть чистая публицистика и настоящие рассказы, по тону они неизменно окрашены иронией. Многие объединены в циклы: «Летучие штрихи и наброски» («Недельная хроника «Восхода», 1886), «Из дневника» (там же, 1888–89), «Весенние элегии» (там же, 1889) и другие. Некоторые циклы растягивались на многие годы и переходили из одного периодического издания в другое («Из воспоминаний еврея-колониста» [или «еврея-земледельца»]; в 1881 г. в «Рассвете», затем до конца 1880-х гг. в «Недельной хронике “Восхода”»). Самый крупный по объему, хотя и не объединенный общим подзаголовком цикл (в «Недельной хронике “Восхода”» и «Хронике “Восхода”», 1889–98), представляет собой тексты, приуроченные к еврейским праздникам . В некоторых фельетонах проза перемежается стихами. Несмотря на то, что многое писалось второпях и «на случай», фельетонная проза Фруга - существенный и необходимый этап на пути к фельетонам В. Жаботинского - вершине этого жанра в русско-еврейской литературе. В жанре фельетона пробовали себя практически все литераторы как первого, так и второго периодов (см. выше). В числе наиболее продуктивных и, видимо, наиболее популярных фельетонистов первой половины 1880-х гг. были также Гершон-бен-Гершон (Г. Лифшиц, 1854–1921), небезуспешно выступавший также в сатирической художественной прозе; Галеви (М. Оршанский); Оптимист (М. Лазарев, 1858–1912), публиковавший также и художественную прозу; Г. М. (Г. Рабинович; 1832–89), один из издателей «Русского еврея»; Петр Шлемиль (Д. Л. Слонимский), который начал еще в 1872 г. повестью «Первые шаги», опубликованной в «Вестнике русских евреев»; Я. Ромбро .
В первой половине 1880-х гг. зародилась профессиональная русско-еврейская литературная критика. Зачинателями ее были А. Волынский, С. Дубнов, И. Л. Кантор, Г. Лифшиц. Особое место принадлежит М. Лазареву, статья которого «Задачи и значение русско-еврейской беллетристики. (Критический эскиз)» («Восход», 1885, №5–6) была первой попыткой перейти от анализа разрозненных фактов к обобщениям и перспективам.
С середины 1880-х гг. и до конца столетия «Восход» был единственным русско-еврейским периодическим изданием; все, что дала русско-еврейская литература (за редчайшими исключениями) в этот период, печаталось в «Восходе». Наиболее значительным из прозаиков, активно и регулярно сотрудничавших в «Восходе», был М. Бен-‘Амми (подписывал свои произведения Бен-Ами). Первые его рассказы появились в «Восходе» в 1882 г., где он печатался вплоть до закрытия журнала в 1906 г. (неоконченная автобиографическая повесть «Годы скитаний»). Уже первые публикации были замечены и оценены русско-еврейской критикой; в конце 1890-х гг. Ш. Гинзбург , один из постоянных сотрудников «Восхода», точно определил место Бен-‘Амми в русско-еврейской литературе: «Он стал первым изобразителем и певцом еврейской массы, которой русско-еврейская беллетристика до него не уделяла внимания, занимаясь почти исключительно интеллигентом-просветителем (маскилом); его главный интерес - не отдельные личности и не бытовые детали, но народ в целом, душа народа с тем главным, что в ней скрыто, то есть с беспредельной и безраздельной любовью к Торе; неслучайно лучшие страницы у Бен-‘Амми - это картины праздников (прежде всего субботы), когда восторженно-молитвенное настроение овладевает массою и превращает ее в единый организм» («Восход», 1897, №12). Решительно меняется и авторская позиция борьбы на два фронта (впервые встречающаяся у О. Рабиновича и остававшаяся неизменной в русско-еврейской литературе в течение 20 лет); у Бен-‘Амми это не защита от вражеских нападок извне и борьба с собственными пороками, а пристальное и сочувственное внимание к своему, особому национальному существованию. Эту позицию он занял еще в 1884 г. (статья «Наше еврейское мироедство и его главная причина»; «Восход», 1884, №8–9) и оставался ей верен всю свою творческую жизнь. Бен-‘Амми четко сформулировал свою программу: «Пускай сами евреи проникнутся истинной любовью к еврейскому народу и к еврейству - и это совершенно достаточно» («Собрание рассказов и очерков», т. 1, Одесса, 1898). Поскольку не масса, а культурно обрусевшая (или находившаяся в процессе обрусения) еврейская интеллигенция и торгово-промышленный класс были читателями, на которых ориентировался русско-еврейский литератор, именно этому читателю Бен-‘Амми без устали напоминал о его духовных ценностях. Никто в литературном поколении Бен-‘Амми не выразил резче и однозначнее перехода от просветительского универсализма к национальной самодостаточности. Насколько этот переход был важен и, в конечном счете, плодотворен, видно хотя бы из того, что к сходным убеждениям пришел десятилетия спустя С. Ан-ский : «Надо оставаться евреями... Все, на чем до сих пор держалось еврейство: религия, Тора, Талмуд - пало, разрушено. И вот мы, представители нового еврейства, пытаемся создать нечто такое, что, помимо религии, объединило и сплотило бы народ в одно целое» (Собрание сочинений, т. 1, СПб.). Вместе с тем очевидна и ограниченность возможностей Бен-‘Амми. Он неизменно описывает одну и ту же эпоху - 1860-е гг., когда традиционный быт, образ мышления и чувствований были только чуть поколеблены, но далеко не подорваны; за пределами этого материала, знакомого автору по воспоминаниям детства и отрочества (автобиографичность повествования почти всюду подчеркнута рассказом от первого лица), Бен-‘Амми-беллетриста не существует. Влюбленность в патриархальное еврейство с вековой неподвижностью его быта и бытия нередко оборачивается у него высокопарной апологетикой, сентиментальностью, утомительным однообразием, статичностью, слабостью фабулы. В меньшей мере эти недостатки присущи поздней прозе («Детство», «Годы скитаний»). Из богатого публицистического и журналистского наследия Бен-‘Амми сохранило актуальность очень многое, в первую очередь - цикл очерков «Глас из пустыни», начатый в «Восходе» (1900–1901) и продолженный в сочувствовавшем сионизму еженедельнике «Будущность» в 1902 г. Бен-‘Амми - первый из крупных писателей русско-еврейской литературы, выступивший и в художественной прозе на идиш: его рассказ появился во втором выпуске «Идише фолксбиблиотек» Шалом Алейхема уже в 1889 г. (и в дальнейшем он продолжал писать на идиш).
Заметной фигурой среди прозаиков «Восхода» был С. Ярошевский (умер в 1907 г.). За время сотрудничества в журнале (1881–99) он напечатал шесть больших рассказов, три повести и четыре романа, из которых романы «Выходцы из Межеполя» (1891–93) и «Конец выходцев» (1896) образуют дилогию. За редкими исключениями произведения Ярошевского не вызывали отклика у его современников. В первую очередь это объясняется неопределенностью его позиции в том вопросе, который для еврейского читателя был важнейшим: какова ценность еврейства? стоит ли оставаться евреем? Образ выкреста (или потенциального выкреста) появляется уже во второй публикации (рассказ «Пионерка», 1882, №1–5) и присутствует во многих произведениях, однако остается неясным, как расценивает отступничество сам автор. Особенно любопытен в этом отношении роман «Роза Майгольд» (1897, №5–12). Видя трагические последствия любого ухода от еврейства и его эгоистические - хотя бы частично - мотивы, Ярошевский, в то же время, не находит в еврействе тех внутренних достоинств и сил, которые могли бы противостоять соблазну ухода от своего народа. Персонажи и изображаемые события оставляют ощущение не столько неразрешимого конфликта, сколько растерянности и даже малодушной неспособности решать и действовать. Но критика того времени не оценила глубокие размышления Ярошевского, справедливость которых была осмыслена еврейской общественностью значительно позже. Еще в 1883 г. он говорил (устами жандармского генерала, обращающегося к юному еврею-социалисту, замешанному в каком-то революционном «деле»): «...вы это делаете из любви к отечеству, к народу... как теперь любят выражаться; вы хотите доказать этим, что вы перестали быть евреями и наравне со всеми сынами отечества радеете о благе отечества, народа... Но это мыльные пузыри... Вы никогда не добьетесь, чтобы даже ваши друзья... считали вас равными себе... Вы в их глазах всегда останетесь жидами, и уж народ, которого вы являетесь непризванными спасителями, никогда не признает вас... По первому сигналу он пойдет вас бить... Теперешние погромы... это вам наука. Вы хотели слияния, ваши интеллигентные молодые люди хотели показать, что они стали более русскими, чем сами русские... Вот и поплатились... Будьте же благоразумны» (повесть «В водовороте», «Восход», 1883, №10). А монолог состарившегося еврейского просвещенца, отнюдь не ретрограда, не замшелого хранителя традиции, о том, что рано евреям выходить из своей «раковины» ради «смешения» и «слияния» (рассказ «Пионерка»), почти на четверть века предвосхищает размышления С. Ан-ского, лежащие в основе «очерка» (авторское определение; по объему и по сути это роман) с многозначительным названием «Разрушители ограды» («Книжки “Восхода”», 1905, №1–9). Сама тема погрома, которую впоследствии развивала не только русско-еврейская литература, но и отражала русская литература, была введена в художественную прозу Ярошевским. Слабые стороны писателя (неубедительность фабулы и нечеткость фабульных ходов, сентиментальность, вялость повествования) очевидны, но несправедливо забывать о достоинствах: он создает картину жизни губернского города К., где-то на юго-западе империи, в черте оседлости (там протекает действие большинства произведений Ярошевского) - «вторую действительность», которая отличается оригинальностью, внутренней согласованностью, разнообразием персонажей. Привлекают иронический взгляд автора и его метод построения характеров (психологическая характеристика складывается исподволь, ненавязчиво, из мелких деталей). Творческая судьба Ярошевского - один из примеров несправедливого забвения, постигшего многих писателей русско-еврейской литературы.
Противоположностью Ярошевскому во всех отношениях был Я. Ромбро. Он не был забыт (правда, история еврейской культуры хранит скорее лишь его псевдоним Филип Кранц). Как прозаик он дебютировал в «Восходе» (его первая публикация в том же журнале в 1880 г. носила публицистический характер) чуть позже Ярошевского, в 1882 г., и все его художественное наследие в русско-еврейской литературе сводится к трем рассказам (последний появился в «Восходе» в 1885 г.). Ему удалось создать несколько образов, расширявших прежние горизонты русско-еврейской литературы: нищий ученик иешивы, превращающийся из отчаянного религиозного фанатика в еще более отчаянного атеиста («Записки сумасшедшего орем-бохера»); в другом произведении - властительница дум в местечке, устраивающая свадьбу нищенки с идиотом во искупление грехов общины и во избавление от холеры и вызывающая у маскила не только гнев, но и своего рода восхищение, поскольку она действительно добрая душа и действительно печется об общественном благе, хотя и понимает его по-своему; сама нищенка, убогая и уродливая, но не смирившаяся, жаждущая материнства и семейного счастья и безнадежно озлобившаяся («Холерная свадьба»).
Еще меньшее творческое наследие оставил Г. Гуревич (1854–?), автор замечательных «Записок отщепенца» («Восход», 1884, №3,5,6), подписанных псевдонимом Гершон Баданес. Он учился в университетах Вены и Берлина и литературную деятельность начинал на немецком языке в газетах левого и крайне левого направления (как и Ромбро, он очень рано перешел от Х аскалы к социализму). В Россию вернулся в 1883 г. и в том же году начал печататься в «Восходе». Сочетающие беллетристику с публицистикой «Записки» с предельной откровенностью подражают манере и приемам М. Салтыкова-Щедрина, который был кумиром российской (в том числе и русско-еврейской) интеллигенции и оказал воздействие на культуру еврейства в России в целом, вне зависимости от языковой принадлежности. Гуревич анализирует превращение маскила в отщепенца, то есть лихорадочное обрусение новорожденного русско-еврейского интеллигента, бросившего опостылевших единоверцев и единоплеменников ради идеалов всеобщего братства и грубо отвергнутого вожделенным «окружающим большинством», которое видит в нем не брата, а презренного жида. Эта ситуация, намеченная Ярошевским годом раньше, впервые выписана подробно, с трагическим пафосом и сарказмом; образ еврея-отщепенца становится типичным в разных еврейских литературах 20 в. (например, Иосиф Флавий в трилогии Л. Фейхтвангера , Лютов в «Конармии» И. Бабеля и другие). Особенность российского маскила-отщепенца в том, что он - жертва не политики, а великой русской литературы, от М. Лермонтова и В. Белинского до Г. Успенского и того же М. Салтыкова-Щедрина. Это она заставила его поверить во «всемирные идеалы красоты, величия, вечности, гордого гражданского самосознания» («Восход», 1884, №6) и превратиться в «истого русского» - для того только, чтобы в разгар погромов услышать от русификатора-разночинца, который открыл ему эту литературу, но успел с тех пор сделаться «государственным юношей», государственную же мудрость о народных волнениях: «Относиться не только отрицательно, но даже индифферентно к чисто народному движению мы не вправе; мы обязаны выражать общую формулу всех сил, действующих в России в известном направлении» (там же, 1884, №3). Отщепенец проклинает «русский дух», отрекается от России, но порвать с нею и «вернуться к своей родной подоплеке» (там же) он не в силах.
Через полгода в «Восходе» (1884, №9–12) появилась повесть С. Ан-ского «История одного семейства», написанная первоначально на идиш, но не нашедшая издателя и потому переведенная (возможно, с чьей-то помощью) на русский. Впервые в русско-еврейской литературе предметом изображения была не просто бедность и нужда, но крайняя и страшная нищета, полная пауперизация патриархального еврейства. Этот литературный дебют предвосхищал темы и типы, которые стали характерными и преобладающими лишь в следующий, третий период русско-еврейской литературы с конца 1890-х гг. (особенно у С. Юшкевича). В 1885 г. Ан-ский напечатал в «Восходе» один рассказ и затем надолго ушел из журнала и из русско-еврейской литературы Лишь в 1902 г. Ан-ский опубликовал рассказ «Мендель-Турок», написанный десятью годами ранее, в самый разгар своего русского, народнического периода; с этого момента начался второй еврейский период его творчества, который длился до конца жизни и выдвинул его в число ведущих писателей российского еврейства, и к тому же - на двух языках в равной мере: по-русски и на идиш. Как верно заметил один из самых заметных русско-еврейских критиков А. Горнфельд , в этот второй период Ан-ский из социолога еврейства становится его психологом, то есть приближается к Бен-‘Амми, но в отличие от него с сочувствием и пониманием всматривается в душу и старого, традиционного и нового, бунтующего, уходящего в революцию еврейства («Пионеры», «Восход», 1904–1905; «В новом русле», 1906). «Представитель молодого еврейства, вынесший в былые годы на своих плечах всю тяжесть борьбы за новые воззрения, он сумел оценить те положительные элементы, которые нашел в людях прошлого. Эти люди ошиблись, но это были люди духа, это была настоящая интеллигенция, с которой приходилось бороться, но которой можно гордиться» (А. Горнфельд). И творчество, и сама жизнь Ан-ского - пример того, как в рамках одной личности и на протяжении одного жизненного пути сочеталось еврейское и русское, и попеременно преобладало то одно, то другое. И хотя верх взяло еврейское, Ан-ский-художник, целиком сформированный школой народников-разночинцев, так и не вышел за ее достаточно ограниченные рамки, хотя пережил своего литературного кумира Г. Успенского на целых 20 лет. Но при всей сухости, приземленности, документальной очерковости письма, типичных для народнической литературы, у него есть страницы, эпизоды, образы такой поэтической силы, до какой редко поднималась русско-еврейская литература в целом (таков хилый Сендер - «В новом русле», - очарованный русской силой, удалью и размахом, мечтающий раствориться в русском народе и с презрением им отвергаемый). Особняком стоит творчество позднего Ан-ского, перелагателя народных сказаний, хасидских легенд и, в первую очередь, автора «Диббука»; в этом качестве Ан-ский скорее собиратель фольклора, чем романтик или мистик (это одним из первых отметил И. Л. Перец). Остается невыясненным: была ли пьеса «Диббук» написана по-русски или на идиш, или оба варианта создавались одновременно. Бесспорно, что в 1916 г. русский вариант «Диббука» («Меж двух миров») уже сложился примерно в том виде, в каком пьеса существует сегодня на иврите и на идиш, - это подтверждает отрывок из первого действия, опубликованный в еженедельнике «Еврейская жизнь» (Петроград, 1916, №1). Есть также газетные, мемуарные, эпистолярные свидетельства о переговорах автора с К. Станиславским о постановке пьесы в одной из студий Московского Художественного театра в 1915–17 гг. (однако полный русский текст, который читал и правил К. Станиславский, до сих пор не обнаружен). Принадлежность «Диббука» к русско-еврейской литературе сомнению не подлежит.
С первого же номера «Восхода» и в течение 1880-х гг., почти до конца своей жизни, в журнале печатался П. Левенсон (см. выше). Ярче всего его литературное дарование проявляется в жанре путевого очерка («В гостях», 1883, №1–2 и 5–6; 1885, №1–2, 4–5, 8–9; «Поездка в Рэмсгейт», 1889, №1–2,4,6; «На Западе», 1889, №12, 1890, №4–5, 8–10; «Воспоминания об Англии», 1891, №4–9): острота взгляда, безошибочно вылавливающего в море деталей самые характерные и значимые, сочетается с чисто щедринской иронией, и это сочетание сообщает свежесть, непосредственную увлекательность текстам столетней давности. Рассказ «Заколдованный» (1884, №7) - одно из лучших в русско-еврейской литературе произведение о кантонистах.
В 1880-е гг. впервые появляются авторы, воспитанные в ассимилированной среде, которые не бунтуют против старого еврейства, не апологизируют его, они чужды ему изначально, и их загоняют в еврейство печальные обстоятельства (погромы, антиеврейское законодательство, административные меры). Это явление впервые проанализировал О. Грузенберг (в первой половине 1890-х гг. он вел в «Восходе» рубрику «Литература и жизнь») на примере первого сборника рассказов и повестей «Силуэты» (1894) Рашели Хин (1863/64?/ - 1928, псевдоним Р. М-хин). Еврейская тема не была у писательницы ни единственной, ни даже преобладающей; основной объект изображения - русская интеллигенция на родине и в эмиграции. Грузенберг утверждал, что и еврейские персонажи Хин выстроены по русским интеллигентским образцам; это верно лишь в отношении повести «Не ко двору», с которой писательница впервые выступила в «Восходе» (1886, №8–12), но неприложимо к большинству более поздних произведений, печатавшихся как в русско-еврейской, так и в собственно русской периодике («Вестник Европы», «Мир Божий» и другие). Уже в рассказе «Макарка» («Восход», 1889, №4), главный герой которого - подросток из семьи, живущей не в черте оседлости, а в Москве, автор создает образ, оригинальный и психологически, и сюжетно. А. Горнфельд несколько раз в начале 1900-х гг. отмечал, что Хин не просто знает своих героев, но пишет их изнутри, и противопоставлял ее А. Куприну, который при всем сочувствии к евреям дальше этнографического очерка пойти неспособен. Р. Хин - ранний (если не первый) пример творческого пути, на котором русско-еврейский и собственно русский литератор развиваются параллельно, иногда соприкасаются, но никогда не соединяются; это как бы начало принадлежности к двум цивилизациям.
В числе литераторов, заявивших о себе в 1880-е гг., были В. Баскин (1855–1919), автор драмы в пяти действиях «На распутье» («Русский еврей», 1880, №20–31), в дальнейшем известный музыкальный критик; прозаик и драматург Н. Гольденберг (1863-?), печатавшийся под псевдонимом Барон Тарнеголь (с его именем связан первый в русско-еврейской литературе литературный скандал: варшавская польско-еврейская газета «Исраэлита» утверждала, что его пьеса «В ожидании лучшего», опубликованная «Русским евреем» в 1881, №32–39, - плагиат); В. Берман , выступавший во всех жанрах, в том числе и в поэзии; В. Вейншал (1863–1943), даровитый прозаик и публицист. История русско-еврейской литературы настолько мало изучена, что о многих интересно начинавших прозаиках неизвестно ничего, кроме имени и (или) псевдонима.
На рубеже 1880–1890-х гг. дебютирует Е. (Х.) Хисин , участник Билу , вернувшийся в Россию в 1887 г. Его очерки о Палестине печатались в «Восходе» до конца 1890-х гг. («Из дневника палестинского эмигранта», 1889, отдельное издание под названием «Дневник билуйца», Т.-А., 1973; «Поездка в Обетованную Землю», затем «Обетованная Земля», 1891–97; «Заиорданье», 1898–99) и были важной вехой в развитии документальной прозы в русско-еврейской литературе. В первой половине 1890-х гг. печатался много обещавший, но рано умерший Б. Фербер (1859–95): рассказ «Из хроники местечка Черашни» («Восход», 1890, №11–12), повесть «Около любви» («Восход», 1892, №4–8; очерки и фельетоны в «Недельной хронике «Восхода»). Было напечатано последнее и лучшее художественное произведение М. Варшавского (1853–97) - эскиз «Приключение» («Восход», 1892, №1); в русской литературе Варшавский дебютировал как поэт в 1874 г., а в русско-еврейской литературе начинал еще в 1879 г. в «Рассвете», где вел отдел беллетристики, в котором поместил и ряд своих произведений («Черный жид», «Забытый» и другие); он «открыл» Фруга, которого устроил в столице и всячески поддерживал. После прекращения издания «Рассвета» Варшавский сотрудничал в «Русском еврее», а в 1884 г. под псевдоним Марк Самойлов выпустил сборник стихотворений «У моря» (не содержавший еврейской тематики). Из рано ушедших молодых авторов «Восхода» привлекает внимание поэт и очеркист И. Тагер (умер в 1896 г.). Среди прославившихся впоследствии деятелей еврейской культуры, начинавших литературную деятельность в 1890-х гг., - Л. Рубинов (1873–?), до конца века публиковавший свои рассказы и повести в «Восходе», позже - в сионистских изданиях («Будущность», «Еврейская жизнь» и других), а после Первой мировой войны оказавшийся в Польше и полностью перешедший с русского на идиш; М. Рывкин ; Ю. Гессен , начинавший весьма слабыми стихами («Восход», 1895, №2); М. Ривесман (1868–1924), работавший также на идиш, - прозаик, поэт, драматург, переводчик, много писавший о детях и для детей (серия фельетонов «Из детских воспоминаний» в «Недельной хронике «Восхода» и в газете «Восход», 1892–1903); Л. Яффе .
Совершенно особым дебютом было появление на страницах «Восхода» (1896, №7) Н. Пружанского (Н. Линовский; 1844/45?/–1919?), впервые напечатавшегося на иврите еще в 1863 г. в «Х а-мелиц» . Он рано принял христианство и ушел в собственно русскую словесность более чем на 15 лет. Профессиональный и плодовитый литератор (ему принадлежали по меньшей мере два десятка сборников рассказов и повестей, в основном не имевших отношения к еврейству), он не принес в русско-еврейскую литературу ничего оригинального. После погромов 1881–82 гг. он выпустил ряд брошюр для народа («Хорошо ли мы делаем, что бьем евреев», Одесса, 1882; «Виноват ли еврей в том, что он еврей», Одесса, 1883), а с середины 1890-х гг. регулярно сотрудничал в «Восходе» (журнале и газете) и «Книжках «Восхода». «Еврейский» Пружанский - характерный маскил последнего поколения, только несколько запоздалый, и едва ли не самое любопытное в его наследии - это мемуары «Пережитое», посвященные юным годам автора в Пружанах, в Вильно (в раввинском училище), в Одессе и в Николаеве («Книжки «Восхода», 1903, №12; 1904, №12).
Как новое слово в русско-еврейской литературе был принят критикой рассказ (скорее повесть) «В еврейском местечке» Н. Когана (1863–93), напечатанный под псевдонимом Н. Наумов в «Вестнике Европы» (1892, №11; отдельное издание 1893 г. под названием «В глухом местечке»). Повесть была почти единственным художественным произведением (если не считать стихотворных и беллетристических опытов, опубликованных в газетах «Крым» и «Крымский вестник») рано умершего писателя (в некрологе С. Станиславский назвал Когана «новатором в области еврейской беллетристики», и далее писал, что русско-еврейская литература, «сильно оскудевшая после смерти таких крупных писателей, как Л. О. Леванда и Г. И. Богров, нашла бы в его лице достойного заместителя»; «Недельная хроника «Восхода», 1893, №26). В 1905 г. М. Рывкин публикует отдельной брошюрой очерк о Наумове-Когане, в котором пишет: «...“В глухом местечке” сделалась настольной книжкой почти всякой еврейской семьи. Она... вместе с памятью ее гениального творца сделалась достоянием всего еврейского народа». Повесть предельно (и, очевидно, умышленно) упрощена и фабульно, и сюжетно: «просветившийся», то есть получивший русское образование молодой человек возвращается в родное местечко, чтобы открыть школу, и встречается там с разными людьми. Это произведение точно укладывается в каноны русской разночинно-народнической прозы, неслучайно оно появилось в русском журнале при содействии В. Короленко и ему посвящено. Вероятно, восторг критиков был вызван не только грустным сочувствием автора нищему, но великому духом меламеду , непреклонно отрицающему любое знание, кроме традиционно еврейского, не только симпатией к полицейскому чиновнику, который делается «жидомором» вопреки своему «доброму сердцу», по требованию начальства и «казенных бумаг», но и особой поэтикой народнической прозы, впервые последовательно и мастерски примененной русско-еврейским писателем. Эта поэтика, однако, уже исчерпала себя и на русской почве, у нее не было никакого будущего и в русско-еврейской литературе, и нет ничего удивительного, что и повесть, и ее автор были скоро забыты.
Новый период в русско-еврейской литературе начинается в 1897 г. с появлением в августовской книжке «Русского богатства» рассказа «Портной» (с подзаголовком «Из еврейского быта») С. Юшкевича. Появление еврейского рассказа в журнале русских народников, печатавшем таких писателей, как И. Бунин и Л. Андреев, М. Горький и А. Куприн, было знаменательным: в предреволюционные десятилетия русско-еврейская литература впервые обратила на себя внимание русской читающей публики, еврейская тема все чаще и острее звучит в беллетристических произведениях на страницах русской периодики. Интерес и реакция критики на русско-еврейскую литературу не всегда были сочувственными: во второй половине 1900-х гг. звучали голоса о засилии евреев в русской литературе, причем имелись в виду как писатели русско-еврейские, так и русские литераторы еврейского происхождения. Становление как политического сионизма (1-й Сионистский конгресс, 1897), с одной стороны, так и русского революционного движения - с другой, привело к усилению социальных и политических мотивов в литературе и к резкому размежеванию литераторов по этим мотивам. В эстетическом плане русско-еврейская литература вслед за русской (от которой, как и в предыдущие периоды, она продолжала находиться в художественной зависимости) пережила своего рода модернистскую революцию. Этот период в русской культуре получил название «серебряного века»; русско-еврейская литература начала 20 в. также переживала расцвет. Все эти явления отразились в обширном, многоплановом, отчасти противоречивом творчестве С. Юшкевича. Впервые русско-еврейский писатель поднялся над утилитарными задачами обличения и апологии, ощутил себя художником, который не заботится о том, какое толкование может быть дано его произведениям в широком контексте национального и религиозного противостояния «еврей - нееврей». Как точно заметил В. Ходасевич , главный предмет и цель Юшкевича - изображение человеческого страдания; судьба еврейского народа в России волновала его не только сама по себе, но и, вероятно, как средоточие мирового и особенно российского страдания. «Ассимилированный бытописатель распада» (по определению И. Цинберга), Юшкевич изображал разрушение традиционной семьи, мировосприятия, социальных структур (уже с первого значительного произведения, повести «Распад», написанной в 1895–97 гг., опубликованной в 1902 г.) и «плоды» этого разрушения: крупную еврейскую буржуазию, пролетариат, проституток, уголовников и моральных выродков. Нередко это вызывало возмущение читателей и театральных зрителей (особенно в связи с постановками пьес «Деньги», 1907, и «Комедия брака», 1909) и даже прямые обвинения в антисемитизме. Мотив еврейского самоненавистничества был также впервые открыт Юшкевичем. Среди созданных им новых еврейских характеров есть и сильные личности, борцы, исповедующие различные политические убеждения, в том числе и сионистские (сам писатель сионистом никогда не был). Юшкевич ввел в русско-еврейскую литературу элемент грубой чувственности, эротики (по-видимому, впервые в новых еврейских литературах), предвосхитив в этом И. Бабеля, а в Идиш литературе - О. Варшавского и И. Башевиса-Зингера . Предшественником Бабеля он был и в первых удачных попытках подлинно художественного (а не механического, как до него) воспроизведения интонационных, лексических и синтаксических особенностей речи на идиш средствами русского языка. В творчестве Юшкевича наряду с удачами есть и явные провалы (так, он едва ли овладел приемами символистского письма в прозе и в драме). Однако переход от своеобразного бытописания к сатире (в изображении «победителей», «хозяев жизни»), граничащей с гротеском и эстетикой уродства, оказался в высокой степени плодотворным: в этом ключе написаны его лучшие произведения - роман «Леон Дрей» (1908–19) и повесть «Эпизоды» (1921), - открывавшие новые перспективы в русско-еврейской литературе. Вообще все развитие русско-еврейской литературы в этот период связано с опытами и достижениями Юшкевича.
Вторым по значению писателем в эти годы был Д. Айзман , также впервые опубликовавшийся в «Русском богатстве», но четырьмя годами позже. Как и Юшкевич, он был сначала близок к М. Горькому, печатался в его литературных сборниках и в издательстве «Знание», сочувствовал социал-демократам, воспевал революцию, но после 1907 г. стал искать иных тем и средств выражения: социальное уступило место личному, сугубо реалистическая манера письма - модернистской (символистской). Как и Юшкевич, он часто обращался к общерусской, нееврейской тематике. Айзман - еврейский писатель все же преобладал в нем над русским; его герой - это, как правило, ассимилированный еврей-интеллигент, потерявший связь со своим народом, влюбленный в Россию и отвергаемый, отталкиваемый ею. Отсюда повторяющийся и характерный для Айзмана образ русского еврея в эмиграции, страдающего от ностальгии и мечтающего о возвращении на родину. Мотив этот специфически айзмановский, наиболее же общим мотивом для всей русско-еврейской литературы рассматриваемого периода были русско-еврейские взаимовосприятие, взаимоотношения, взаимодействия, часто в самом трагическом их проявлении - погроме (например, рассказ Айзмана «Сердце бытия», 1906, и его повесть «Кровавый разлив», 1908). Как мастер слова Айзман превосходит Юшкевича. Его проза, более ровная, чистая и отделанная, большей частью нейтральная (даже до перелома 1907 г.) политически и идеологически, - одна из вершин русско-еврейской литературы; недаром критики называли Айзмана «еврейским Чеховым». Главное стилистическое открытие Айзмана - виртуозное воспроизведение русской речи полуобразованного, еще неуверенно себя чувствующего в русской языковой стихии еврея; в этом он, как и Юшкевич, прямой предшественник Бабеля. Айзман писал и для театра, его пьесы пользовались известностью; одна из них, «Жены», ставилась на столичных сценах (в Александрийском театре в Петербурге, 1909, в Малом театре, 1910). Страстность Юшкевича и его дар сатирика Айзману были чужды; он мягок, лиричен и даже чуть сентиментален, и это в какой-то мере объясняет неизменную благосклонность к нему как читателя, так и критики. Впрочем, иногда он умел быть почти беспощадным к своим персонажам - и тогда рождались характеры особенно интересные, как Макс Солнцев, он же Моисей Зоншейн в рассказе «Редактор Солнцев» из одноименного сборника (издан посмертно в 1926 г.).
Рассказы и очерки М. Рывкина (см. выше), составившие сборник «В духоте» (выдержал несколько изданий, первое - в 1900 г.), представляют в русско-еврейской литературе традицию психологической прозы чеховского типа, предмет изображения которой - замкнутый мир местечка . Созданный позже роман о Велижском деле «Навет» (1912) был первым в русско-еврейской литературе опытом модернистского исторического романа и получил положительную оценку И. Цинберга. Если Рывкин принадлежал к еврейской литературе (на русском языке и на идиш) полностью, то А. Свирский начинал в 1892 г. как русский литератор и около десяти лет к еврейской теме не обращался (возможно, потому, что в юные годы он ушел от еврейства, приняв православие). В 1900–1910-х гг. вышли три сборника его рассказов о еврейской бедноте; в конце 1920-х гг. один из русских критиков, рецензировавший десятитомное собрание сочинений Свирского, отмечал, что во всем его творчестве наибольшую художественную ценность представляют именно еврейские рассказы. Они написаны в духе раннего Горького (несколько романтизированное бытописание социального «дна»). И в советское время, когда русско-еврейская литературная деятельность почти замерла, Свирский частично остался в рамках русско-еврейской литературы: даже его последнее произведение, автобиографический роман «История моей жизни» (1929–40), обнаруживает очевидную двойственную принадлежность - к типично русскому жизнеописанию 20 в. (по типу горьковской автобиографической трилогии), но, в то же время, и к традиции русско-еврейской автобиографической прозы (Леванда, Богров, Бен-‘Амми). К горьковскому направлению был близок и А. Кипен , у которого не так много произведений, относящихся к русско-еврейской литературе, но его вклад достаточно весом. Так, в рассказе «Ливерант» (1910) представлен совершенно новый еврейский характер - сильный, независимый, активно реагирующий на всякое унижение и добивающийся успеха; Арон Гец, герой рассказа, - прямой предшественник бабелевских персонажей. В известной мере Кипен предвосхищал и язык бабелевских диалогов. В замечательном рассказе «Иже еси на небеси» (еженедельник «Еврейский мир», 1910, №3), замеченном и тонко прокомментированном С. Ан-ским, в русско-еврейскую литературу вводится проблема детей и подростков в обрусевших семьях: «колыбельная ассимиляция» (выражение Ан-ского) толкнет их в дальнейшем на путь отступничества, крещения. Трагедия крещения в неожиданном ракурсе представлена в пьесе О. Дымова , деятельность которого в русско-еврейской литературе была весьма недолгой (для него это был мост от русской словесности к еврейской на идиш). В пьесе «Слушай, Израиль!» (1907), изображающей зверства и ужасы погрома, главный сюжетный ход состоит в том, что молодой человек, убитый погромщиками, оказывается тайным выкрестом (он принял христианство, чтобы поступить в университет); когда это обнаруживается, раввин отказывает отцу убитого в еврейских похоронах. Главным же предметом изображения оказываются страдания отца, «нового Иова ». Примечательно, что этот на редкость удачный ход был заимствован Дымовым у Свирского, который в цикле «Вечные странники (Записки коммивояжера)» («Еврейская жизнь», 1904, №10) показал ту же коллизию, только не связанную с погромом.
Этот период был временем наивысшего расцвета русско-еврейского книгоиздания и периодики. Выходило более 60 одних только повременных изданий. Сложилась школа еврейской культурологии, историографии, литературной критики; наиболее яркие и известные ее представители - Ю. Гессен, Ш. Гинзбург, П. Марек , А. Горнфельд, И. Цинберг; все они писали для широкой публики, то есть были не только учеными, но и литераторами. Беллетристические отделы периодики постоянно пополнялись новыми именами, часть из них вскоре исчезала, некоторые литераторы продолжали печататься, и за журнальными публикациями выходили отдельные издания и даже собрания сочинений. Среди последних - Л. Корнман (псевдоним Кармен, см. Р. Кармен), но прежде всего - Н. Осипович , создавший совершенно новый для русско-еврейской литературы характер - черноморский рыбак-еврей, здоровый, сильный и бесстрашный, ни в чем не схожий с хилым и робким местечковым обывателем («У воды»). Осипович был художником лирического по преимуществу склада, писавший и природу, и своих героев с любовью и «неистребимой верой в будущее, непоколебимым идеализмом» (А. Горнфельд). Из промелькнувших в русско-еврейской литературе имен привлекает внимание А. Кацизне (стал затем довольно известным представителем литературы на идиш).
Период «молчания» в русско-еврейской литературе длился до второй половины 1960-х гг., по сути, до возрождения сионизма в Советском Союзе и начала репатриации в Государство Израиль. Пробуждение национального сознания, кратковременное или устойчивое, само по себе еврейского писателя не рождает. Поэтому нельзя отнести к русско-еврейской литературе ни П. Антокольского с его стихотворением «Не вечная память» (1946), ни Б. Слуцкого с его большим циклом «еврейских стихотворений», ни В. Гроссмана с его удивительной мощи «еврейскими главами» из «Жизни и судьбы» и «Все течет...», ни даже теплых ностальгических воспоминаний, появившихся в период «оттепели» (автобиографические /полностью или частично/ повести и романы о еврейском детстве: трилогия «Дорога уходит в даль» Александры Бруштейн , 1956–61; «Мальчик с Голубиной улицы» Б. Ямпольского, 1959; «В начале жизни» С. Маршака, 1961; «Семья из Сосновска» С. Брука, 1965, и другие), - все это писатели русские. К русско-еврейской литературе трудно также отнести произведения, появившиеся в конце 1960-х гг. - 1970-х гг., посвященные еврейской тематике: повести М. Гроссмана «За пределами разума» (1968) и Д. Галкина «Цимбалисты» (1970), роман А. Рыбакова «Тяжелый песок» (1978) и другие.
Русско-еврейская литература периода, продолжающегося и в 1990-е гг., созревала в подполье и появлялась на свет, в основном, в Израиле, после отъезда автора из Советского Союза или при подготовке к отъезду, который иногда затягивался на долгие годы из-за отказа (см. Самиздат ; см. также Советский Союз ; Русская литература в Израиле). Крупнейший русско-еврейский писатель, поселившийся вне Израиля, - Ф. Горенштейн (1932–2002; жил в Берлине). Его философская, чрезвычайно емкая и «густая» проза и драматургия принадлежат, однако, России и христианству в не меньшей, а быть может, и в большей мере, нежели еврейству и иудаизму . Что же касается территории бывшего Советского Союза, то процесс формирования нового поколения русско-еврейских писателей еще только начинается. Убедительно и веско заявил о себе лишь Г. Канович , высокопрофессиональный прозаик, глубоко укорененный в еврействе. Обратила на себя внимание и Дина Калиновская (урожденная Дора Берон; 1934–2008) повестью «О, суббота» (1980; сначала была опубликована в переводе на идиш в «Советиш Геймланд» , 1975, №2–3, под названием «Старые люди»), рассказами «Из Фридкиных историй» (1985, в переводе на идиш в «Советиш геймланд», 1976, №6), «Рисунок на дне» (1985) и другие.
ОБНОВЛЕННАЯ ВЕРСИЯ СТАТЬИ ГОТОВИТСЯ К ПУБЛИКАЦИИ