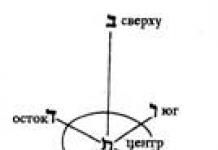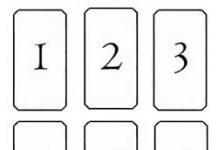"Бунтующий человек" - произведение многослойное, трудное для понимания и интерпретации. Кратко можно сказать так: Камю стремится понять, как человек и человечество становятся способными к убийствам, войнам, через какие идеи и концепции осуществляется их оправдание.
Камю напоминает о результатах, достигнутых им в философии абсурда. Поскольку человечество поднаторело как в осуждении, так и в защите ("когда это нужно, неизбежно" и т.д.) войн и убийств, следует признать, что существующая этика не дает однозначного логически обоснованного решения проблемы. Отказ от самоубийства в философии абсурда косвенно свидетельствовал, что можно привести и доводы против убийства. Но вопрос все же оставался непроясненным. Теперь, в "Бунтующем человеке", он был поставлен в повестку дня. Отталкиваясь от философии абсурда, утверждает Камю, мы пришли к тому, что "первая и единственная очевидность", которая дается в опыте абсурда - это бунт.
"Бунтующий человек" - первая тема рассматриваемого сочинения Камю. "Это человек, говорящий "нет". Но, отрицая, он не отрекается: это человек, уже первым своим действием говорящий "да"". Бунт римского раба, внезапно отказавшегося подчиняться господину, самоубийство русских террористов на каторге из протеста против издевательства над товарищами по борьбе - примеры, из анализа которых Камю делает вывод: "В опыте абсурда страдание индивидуально. В бунтарском прорыве оно приобретает характер коллективного существования. Оно становится общим начинанием... Зло, испытанное одним человеком, становится чумой, заразившей всех. В наших повседневных испытаниях бунт играет такую же роль, какую играет "cogito" в порядке мышления: бунт является первой очевидностью. Но эта очевидность извлекает индивида из его одиночества, она является тем общим, что лежит в основе первой ценности для всех людей. Я бунтую, следовательно, мы существуем"".
Камю разбирает вопрос о "метафизическом бунте". "Метафизический бунт - это восстание человека против своего удела и всего мироздания. Этот бунт метафизичен, поскольку оспаривает конечные цели человека и вселенной". Значение метафизического бунта велико. Сначала бунт не посягает на устранение Бога. Это только "разговор на равных". "Но речь идет не о куртуазной беседе. Речь идет о полемике, воодушевляемой желанием взять верх". Камю прослеживает этапы метафизического бунта - постепенно возникающие в философии тенденции "уравнивания" человека с Богом. Затем у Камю следует анализ тех форм бунта и тех "исследований" бунта, которые разбираются на примерах творчества маркиза де Сада, Достоевского (он признан одним из лучших исследователей "мятежного духа"), Ницше, сюрреалистической поэзии. Основное содержание книги - это анализ тех форм бунта, которые в XIX и XX в. переросли в сокрушительные по своим последствиям революции. Камю подходит к "историческому бунту" отнюдь не как историк и не как философ истории. Его более всего интересует, какие умонастроения и идеи толкали (и толкают) людей к цареубийству, революционной смуте, к террору, войнам, массовому уничтожению иноплеменников и соплеменников. Философским и социально-политическим идеям приписывается поистине решающая роль в этих процессах. Философия Гегеля и гегельянцев, словом, разновидности "немецкой идеологии" и на германской, и на "германизированной" русской почве XIX в. внимательно исследуются как идейные предпосылки разрушительных революционных бунтов. Специальное внимание уделено Белинскому, Герцену, русским нигилистам 60-х годов, теоретику анархизма Бакунину, народнику Нечаеву. Главка "Разборчивые убийцы" анатомирует историю и идеологию российского терроризма XIX и XX в. Анализируется и марксизм, в том числе и его восприятие на русской почве. "Бунт и революция" - это тема остается для Камю стержневой на протяжении всего его анализа. Связь между ниспровержением принципов, революционным потрясением устоев и уничтожением людей представляется автору "Бунтующего человека" несомненной. "Революция в области принципов убивает Бога в лице его наместника. Революция XX в. убивает то, что осталось божественного в самих принципах, и освящает, таким образом, исторический нигилизм".
Камю усматривает сходство между фашизмом и коммунизмом, хотя и принимает во внимание различия между ними. Но сходство есть, и оно проистекает в конечном счете из ложной философии истории, из призыва к бунту. "Фашизм желал учредить пришествие ницшеанского сверхчеловека. И тут же понял, что если Бог существует, он может быть кем угодно и чем угодно, но прежде всего - владыкой смерти. Если человек хочет стать Богом, он должен присвоить себе право на жизнь и смерть других. Но, сделавшись поставщиком трупов и недочеловеков, он сам превратился не в Бога, а в недочеловека, в гнусного прислужника смерти. Рациональная революция в свою очередь стремится реализовать предсказанного Марксом всечеловека. Но стоит принять логику истории во всей ее тотальности, как она поведет революцию против ее собственной высокой страсти, начнет все сильней и сильней калечить человека и в конце концов сама превратится в объективное преступление".
Несмотря на жесткую критичность в отношении бунта и революции, Камю воздает должное бунту и революционности, поскольку они порождены человеческим уделом. И следовательно, несмотря на величайший риск и опасности, бунтарству следует пройти через самокритику и самоограничения. "...Революционный дух Европы может в первый и последний раз задуматься над своими принципами, спросить себя, что за отклонение толкает его к терроризму и войне, и вместе с целями бунта обрести верность самому себе". Заключительные страницы "Бунтующего человека" вряд ли убедительны. Блестяще развенчав бунтующее, революционаристское, нигилистическое сознание и действие, Камю пытался внушить своему читателю, что возможны "истинный бунт" и "новый революционаризм", свободные от разрушительных последствий. И все-таки вера в человека, принявшего на себя "риск и трудности свободы", точнее, вера в миллионы одиночек, "чьи творения и труды каждодневно отрицают границы и прежние миражи истории" - вот о чем говорил в последних своих работах выдающийся писатель и незаурядный философ Альбер Камю.
Страница 12 из 15
«Бунтующий человек»
«Бунтующий человек» - это история идеи бунта - метафизического и политического - против несправедливости человеческого удела. Если первым вопросом «Мифа о Сизифе» был вопрос о допустимости самоубийства, то эта работа начинается с вопроса справедливости убийства. Люди во все времена убивали друг друга, - это истина факта. Тот кто убивает в порыве страсти, предстает пред судом, иногда отправляется на гильотину. Но сегодня подлинную угрозу представляют не эти преступные одиночки, а государственные чиновники, хладнокровно отправляющие на смерть миллионы людей, оправдывающие массовые убийства интересами нации, государственной безопасности, прогресса человечества, логикой истории.
Человек 20-го века оказался перед лицом тоталитарных идеологий, служащих оправданием убийства. Еще Паскаль в «Провинциальных письмах» возмущался казуистикой иезуитов, разрешавших убийство вопреки христианской заповеди. Безусловно, все церкви благословляли войны, казнили еретиков, но каждый христианин все-таки знал, что на скрижалях начертано «не убий», что убийство - тягчайший грех. На скрижалях нашего века написано: «Убивай». Камю в «Бунтующем человеке» прослеживает генеалогию этой максимы современной идеологии. Проблема заключается в том, что сами эти идеологии родились из идеи бунта, преобразившейся в нигилистское «все дозволено».
Камю считал, что исходный пункт его философии остался прежним - это абсурд, ставящий под сомнение все ценности. Абсурд, по его мнению, запрещает не только самоубийство, но и убийство, поскольку уничтожение себе подобного означает покушение на уникальный источник смысла, каковым является смысл каждого человека. Однако из абсурдной установки «Мифа о Сизифе» не вытекает бунт, утверждающий самоценность другого. Бунт там придавал цену индивидуальной жизни - это «борьба интеллекта с превосходящей его реальностью», «зрелище человеческой гордыни», «отказ от примирения». Борьба с «чумой» тогда ничуть не более обоснована, чем донжуанство или кровавое своеволие Калигулы. В дальнейшем у Камю меняется само содержание понятий «абсурд» и «бунт», поскольку из рождается уже не индивидуалистический мятеж, а требование человеческой солидарности, общего для всех людей смысла существования. Бунтарь встает с колен, говорит «нет» угнетателю, проводит границу, с которой отныне должен считаться тот, кто полагал себя господином. Отказ от рабского удела одновременно утверждает свободу, равенство и человеческое достоинство каждого. Однако мятежный раб может сам перейти этот предел, он желает сделаться господином и бунт превращается в кровавую диктатуру. В прошлом по мнению Камю, революционное движение «никогда реально не отрывалось от своих моральных, евангелических и идеалистических корней». Сегодня политический бунт соединился с метафизическим, освободившим современного человека от всех ценностей, а потому он и выливается в тиранию. Сам по себе метафизический бунт также имеет оправдание, пока восстание против небесного всевластного Демиурга означает отказ от примирения со своим уделом, утверждение достоинства земного существования. Он превращается в отрицание всех ценностей и выливается в зверское своеволие, когда бунтарь сам делается «человекобогом», унаследовавшего у отринутого им божества все то, что так ненавидел - абсолютизм, претензии на последнюю и окончательную истину («истина одна, заблуждений много»), провиденциализм, всезнание, слова «заставьте их войти». В земной рай этот выродившийся Прометей готов загонять силою, а при малейшем сопротивление готов устроить такой террор, в сравнении с которыми костры инквизиции кажутся детской забавой.
Такое соединение метафизического бунта с историческим было опосредовано «немецкой идеологией». В разгар работы над «Бунтующим человеком» Камю говорил, что «злые гении Европы носят имена философов: их зовут Гегель, Маркс и Ницше... Мы живем в их Европе, в Европе, ими созданной». Несмотря на очевидные различия в воззрениях этих мыслителей (а также Фейербаха, Штирнера), Камю объединяет их в «немецкую идеологию», породившую современный нигилизм.
Чтобы понять основания, по которым эти мыслители были включены в ряд «злых гениев», необходимо, во-первых, вспомнить об общественно-политической ситуации, во-вторых, понять, под каким углом зрения рассматриваются их теории.
Камю писал «Бунтующего человека» в 1950 г., когда сталинская система, казалось, достигла апогея своего могущества, а марксистское учение превратилось в государственную идеологию. В Восточной Европе шли политические судилища, из СССР доходили сведения о миллионах заключенных; только что эта система распространилась на Китай, началась война в Корее - в любой момент она могла вспыхнуть в Европе. Политические воззрения Камю изменились к концу 40-х годов, о революции он более не помышляет, поскольку за нее в Европе пришлось бы платить десятками миллионов жертв (если не гибелью всего человечества в мировой войне). Необходимы постепенные реформы - Камю оставался сторонником социализма, он равно высоко ставил деятельность тред-юнионов, скандинавской социал-демократии и «либертарного социализма». В обоих случаях социалисты стремятся освободить ныне живущего человека, а не призывают жертвовать жизнями нескольких поколений ради какого-то рая земного. Такая жертва не приближает, а отдаляет «царство человека» - путем ликвидации свободы, насаждения тоталитарных режимов к нему нет доступа.
Камю допускает немало неточностей в толковании воззрений Гегеля, Маркса, но видение классиков вполне объяснимо. Он рассматривает именно те их идеи, которые вошли в сталинский «канон», пропагандировались как единственно верное учение, использовались для обоснования бюрократического централизма и «вождизма». Кроме того, он ведет полемику с Мерло-Понти и Сартром, взявшимися оправдывать тоталитаризм с помощью гегелевской «Феноменологии духа», учения о «тотальности истории». История перестает быть учительницей жизни, она делается неуловимым идолом, которому приносятся все новые жертвы. Трансцендентные ценности растворяются в историческом становлении, законы экономики сами влекут человечество в рай земной, но в то же время они требуют уничтожения всех, кто им противится.
Альбер Камю.
Бунтующий человек
Содержание
Введение
I. Человек бунтующий
II Метафизический бунт
Сыны Каина
Абсолютное отрицание
Литератор
Мятежные денди
Отказ от спасения
Абсолютное утверждение
Единственный
Ницше и нигелизм
Бунтующая поэзия
Лотреамон и заурядность
Сюрреализм и революция
Нигилизм и история
III Исторический бунт
Цареубийство
Новое Евангелие
Казнь короля
Религия добродетели
Террор
Богоубийства
Индивидуальный терроризм
Отказ от добродетели
Трое одержимых
Разборчивые убийцы
Шигалевщина
Государственный терроризм и иррациональный террор
Государственный терроризм и рациональный террор
Буржуазные пророчества
Революционные пророчества
Крах пророчеств
Последнее царство
Тотальность и судилища
Бунт и революция
IV. Бунт и искусство
Роман и бунт
Бунт и стиль
Творчество и революция
V. Полуденная мысль
Бунт и убийство
Нигилистическое убийство
Историческое убийство
Мера и безмерность
Полуденная мысль
По ту сторону нигелизма
Коментарии и примечания редакции
I
ЧЕЛОВЕК БУНТУЮЩИЙ
Что же представляет собой человек бунтующий"? Это человек, говорящий "нет". Но, отрицая, он не отрекается: это человек, уже первым своим действием говорящий "да". Раб, всю жизнь исполнявший господские распоряжения, вдруг считает последнее из них неприемлемым. Каково же содержание его "нет""?
"Нет" может, например, означать: "слишком долго я терпел", "до сих пор - так уж и быть, но дальше - хватит", "вы заходите слишком далеко" и еще: "есть предел, переступить который я вам не позволю" Вообще говоря, это "нет" утверждает существование границы. Та же идея предела обнаруживается в чувстве бунтаря, что другой "слишком много на себя берет", простирает свои права дальше границы, за которой лежит область суверенных прав, ставящих преграду всякому на них посягательству. Таким образом, порыв к бунту коренится одновременно и в решительном протесте против любого вмешательства, которое воспринимается как недопустимое, и в смутной убежденности бунтаря в своей правоте, а точнее, в его уверенности, что он "вправе делать то-то и то-то". Бунта не происходит, если нет такого чувства правоты. Вот почему взбунтовавшийся раб говорит разом и "да" и "нет". Вместе с упомянутой границей он утверждает все то, что неясно чувствует в себе самом и хочет сберечь. Он упрямо доказывает, что в нем есть нечто "стоящее" и оно нуждается в защите. Поработившему его порядку он противопоставляет своего рода право терпеть угнетение только до того предела, какой устанавливается им самим.
Вместе с отталкиванием чужеродного в любом бунте сразу происходит полное отождествление человека с определенной стороной его существа. Здесь скрытым образом вступает в игру ценностное суждение, и притом столь основательное, что оно помогает бунтарю выстоять среди опасностей. До сих пор он по крайней мере молчал, погрузившись в отчаяние, вынужденный терпеть любые условия, даже если считал их глубоко несправедливыми. Поскольку угнетаемый молчит, люди полагают, что он не рассуждает и ничего не хочет, а в некоторых случаях он и вправду ничего уже не желает. Отчаяние, как и абсурд, судит и желает всего вообще и ничего в частности. Его хорошо передает молчание Но как только угнетаемый заговорит, пусть даже он скажет "нет", это значит, что он желает и судит. Бунтарь делает круговой поворот. Он шел, погоняемый кнутом хозяина. А теперь встает перед ним лицом к лицу. Бунтовщик противопоставляет все, что для него ценно, всему, что таковым не является. Не всякая ценность обусловливает бунт, но всякое бунтарское движение молчаливо предполагает некую ценность. О ценности ли в данном случае идет речь?
В бунтарском порыве рождается пусть и неясное, но сознание: внезапное яркое чувство того, что в человеке есть нечто такое, с чем он может отождествить себя хотя бы на время. До сих пор раб реально не ощущал этой тождественности. До своего восстания он страдал от всевозможного гнета. Нередко бывало так, что он безропотно выполнял распоряжения куда более возмутительные, чем то последнее, которое вызвало бунт. Раб терпеливо принимал эти распоряжения; в глубине души он, возможно, отвергал их, но, раз он молчал, значит, он жил своими повседневными заботами, еще не осознавая своих прав. Потеряв терпение, он теперь начинает нетерпеливо отвергать все, с чем мирился раньше. Этот порыв почти всегда имеет обратное действие. Отвергая унизительное повеление своего господина, раб вместе с тем отвергает рабство как таковое. Шаг за шагом бунт заводит его гораздо дальше, чем простое неповиновение. Он переступает даже границу, установленную им для противника, требуя теперь, чтобы с ним обращались как с равным. То, что прежде было упорным сопротивлением человека, становится всем человеком, который отождествляет себя с сопротивлением и сводится к нему. Та часть его существа, к которой он требовал уважения, теперь ему дороже всего, дороже даже самой жизни, она становится для бунтаря высшим благом. Живший дотоле каждодневными компромиссами, раб в один миг ("потому что как же иначе...") впадает в непримиримость - "все или ничего". Сознание возникает вместе с бунтом.
В этом сознании сочетаются еще довольно туманное "все" и "ничего", предполагающие, что ради "всего" можно пожертвовать и человеком. Бунтарь хочет быть или "всем", целиком и полностью отождествляя себя с тем благом, которое он неожиданно осознал, и требуя, чтобы в его лице люди признавали и приветствовали это благо, или "ничем", то есть оказаться побежденным превосходящей силой. Идя до конца, восставший готов к последнему бесправию, каковым является смерть, если он будет лишен того единственного священного дара, каким, например, может стать для него свобода. Лучше умереть стоя, чем жить на коленях*.
По мнению многих признанных авторов, ценность "чаще всего представляет собой переход от факта к праву, от желаемого к желательному (обычно через посредство желаемого всеми)"1. Как я уже показал, в бунте очевиден переход к праву. И равным образом переход от формулы "нужно было бы, чтобы это существовало" к формуле "я хочу, чтобы было так". Но, быть может еще важнее, что речь идет о переходе от индивида к благу ставшему отныне всеобщим. Вопреки ходячему мнению о бунте появление лозунга "Все или ничего" доказывает, что бунт, даже зародившийся в недрах сугубо индивидуального, ставит под сомнение само понятие индивида. Если индивид готов умереть и в определенных обстоятельствах принимает смерть в свое бунтарском порыве, он тем самым показывает, что жертвует собой во имя блага, которое, по его мнению, значит больше его собственной судьбы. Если бунтовщик готов погибнуть, только бы не лишиться защищаемого им права, то это означает, что он ценит это право выше, чем самого себя. Следовательно, он действует во имя пусть еще неясной ценности, которая, он чувствует, объединяет его со всеми остальными людьми. Очевидно утверждение, заключенное во всяком мятежном действии, простирается на нечто, превосходящее индивида в той мере, в какой это нечто избавляет его от предполагаемого одиночества и дает ему основание действовать. Но теперь уже важно отметить, что эта предсуществующая ценность, данная до всякого действия, вступает в противоречие с чисто историческими философскими учениями, согласно которым ценность завоевывается (если он, вообще может быть завоевана) лишь в результате действия. Анализ бунта приводит по меньшей мере к догадке, что человеческая природа действительно существует, соответственно представлениям древних греков и вопреки постулатам современной философии*. К чему восставать, если в тебе самом нет ничего постоянного, достойного того, чтобы его сберечь? Если раб восстает, то ради блага всех живущих. Ведь он полагает, что при существующем порядке вещей в нем отрицается нечто, присущее не только ему, а являющееся тем общим, в чем все люди, и даже тот, кто оскорблял и угнетал раба, имеют предуготованное сообщество2.
Такой вывод подтверждается двумя наблюдениями. Прежде всего, следует отметить, что по своей сути бунтарский порыв не является эгоистическим душевным движением. Спору нет, он может быть вызван эгоистическими причинами. Но люди восстают не только против угнетения, но и против лжи. Более того, поначалу действующий из эгоистических побуждений бунтовщик в самой глубине души ничем не дорожит, поскольку ставит на карту все. Конечно, восставший требует к себе уважения, но лишь в той мере, в какой он отождествляет себя с естественным человеческим сообществом.
Отметим еще, что бунтовщиком становится отнюдь не только сам угнетенный. Бунт может поднять и тот, кто потрясен зрелищем угнетения, жертвой которого стал другой. В таком случае он отождествляет себя с этим угнетенным. И здесь необходимо уточнить, что речь идет не о психологическом отождествлении, не о самообмане, когда человек воображает, будто оскорбляют его самого. Бывает, наоборот, что мы не в состоянии спокойно смотреть, как другие подвергаются тем оскорблениям, которые мы сами терпели бы, не протестуя. Пример этого благороднейшего движения человеческой души самоубийства из протеста, на которые решались русские террористы на каторге, когда секли их товарищей. Речь идет и не о чувстве общности интересов. Ведь мы можем счесть возмутительной несправедливость даже по отношению к нашим противникам. Здесь происходит лишь отождествление судеб и присоединение к одной из сторон. Таким образом, сам по себе индивид вовсе не является той ценностью, которую он намерен защищать. Эту ценность составляют все люди вообще. В бунте человек, преодолевая свою ограниченность, сближается с другими, и с этой точки зрения человеческая солидарность носит метафизический характер. Речь идет попросту о солидарности, рождающейся в оковах.
Позитивный аспект ценности, предполагаемой всяким бунтом, можно уточнить, сравнив ее с чисто негативным понятием озлобленности, как его определяет Шелер3. Действительно, мятежный порыв есть нечто большее, чем акт протеста в самом сильном смысле слова. Озлобленность прекрасно определена Шелером как самоотравление, как губительная секреция затянувшегося бессилия, происходящая в закрытом сосуде. Бунт, наоборот, взламывает бытие и помогает выйти за его пределы. Застойные воды он превращает в бушующие волны. Шелер сам подчеркивает пассивный характер озлобленности, отмечая, какое большое место она занимает в душевном мире женщины, чья участь - быть объектом желания и обладания. Источником бунта, напротив, являются переизбыток энергии и жажда деятельности. Шелер прав, говоря, что озлобленность ярко окрашена завистью. Но завидуют тому, чем не обладают. Восставший же защищает себя, каков он есть. Он требует не только блага, которым не обладает или которого его могут лишить. Он добивается признания того, что в нем уже есть и что он сам почти во всех случаях признал более значимым, чем предмет вероятной зависти. Бунт не реалистичен. По Шелеру, озлобленность сильной души превращается в карьеризм, а слабой в горечь. Но в любом случае речь идет о том, чтобы стать не тем, что ты есть. Озлобленность всегда обращена против ее носителя. Бунтующий человек, напротив, в своем первом порыве протестует против посягательств на себя, каков он есть. Он борется за целостность своей личности. Он стремится поначалу не столько одержать верх, сколько заставить уважать себя.
Наконец, озлобленность, похоже, заранее упивается муками, которые она хотела бы причинить своему объекту. Ницше и Шелер правы, усматривая прекрасный образчик такого чувства в том пассаже Тертуллиана, где он сообщает читателям, что для блаженных обитателей рая будет величайшей усладой видеть римских императоров, корчащихся в адском пламени. Такова же и услада добропорядочных обывателей, обожающих зрелище смертной казни. Бунтарь же, напротив, принципиально ограничивается протестом против унижений, не желая их никому другому, и готов претерпеть муки, но только не допустить ничего оскорбительного для личности.
В таком случае непонятно, почему Шелер полностью отождествляет бунтарский дух и озлобленность. Его критику озлобленности в гуманитаризме (который трактуется им как форма нехристианской любви к людям) можно было бы применить к некоторым расплывчатым формам гуманитарного идеализма или технике террора. Но эта критика бьет мимо цели в том, что касается бунта человека против своего удела, порыва, который поднимает его на защиту достоинства, присущего каждому. Шелер хочет показать, что гуманитаризм идет рука об руку с ненавистью к миру. Любят человечество в целом, чтобы не любить никого в частности. В некоторых случаях это верно, и Шелер становится понятнее, когда примешь во внимание, что гуманитаризм для него представлен Бентамом и Руссо. Но привязанность человека к человеку может возникнуть благодаря чему-то иному, нежели арифметический подсчет интересов или доверие к человеческой природе (впрочем, чисто теоретическое). Утилитаристам и воспитателю Эмиля* противостоит, например, логика, воплощенная Достоевским в образе Ивана Карамазова, который начинает бунтарским порывом и заканчивает метафизическим восстанием. Шелер, будучи знаком с романом Достоевского, так резюмирует эту концепцию: "В мире не так уж много любви, чтобы тратить ее на что-нибудь другое, кроме человека". Даже если бы подобное резюме было верным, бездонное отчаяние, которое чувствуется за ним, заслуживает чего-то лучшего, нежели пренебрежение. Но оно, по сути, не передает трагического характера карамазовского бунта. Драма Ивана Карамазова, напротив, заключается в переизбытке любви, не знающей, на кого излиться. Поскольку эта любовь не находит применения, а Бог отрицается, возникает решение одарить ею человека во имя благородного сострадания.
Впрочем, как это следует из нашего анализа, в бунтарском движении некий абстрактный идеал избирается не от душевной бедности и не ради бесплодного протеста. В человеке надо видеть то, что не сведешь к идее, тот жар души, который предназначен Для существования и ни для чего иного. Значит ли это, что никакой бунт не несет в себе озлобленности и зависти? Нет, не значит, и мы это прекрасно знаем в наш недобрый век. Но мы должны рассматривать понятие озлобленности в самом широком его смысле, поскольку иначе мы рискуем исказить его, и тогда можно сказать, что бунт полностью преодолевает озлобленность. Если в "Грозовом перевале" Хитклиф предпочитает Богу свою любовь и просит отправить его в ад, только чтобы соединиться там с любимой, то здесь говорит не только его униженная молодость, но и мучительный опыт всей жизни. Такой же порыв испытал Мейстер Экхарт, когда в поразительном приступе ереси заявил, что предпочитает ад с Иисусом раю без него. И здесь все тот же порыв любви. Итак, вопреки Шелеру, я всячески настаиваю на страстном созидательном порыве бунта, который отличает его от озлобленности. По видимости негативный, поскольку он ничего не создает, бунт в действительности глубоко позитивен, потому что он открывает в человеке то, за что всегда стоит бороться.
Но не являются ли относительными и бунт, и ценность, которую он несет в себе? Причины бунта, похоже, менялись вместе с эпохами и цивилизациями. Очевидно, что у индусского парии, у воина империи инков, у туземца из Центральной Африки или у члена первых христианских общин были разные представления о бунте. Можно даже с большой вероятностью утверждать, что в данных конкретных случаях понятие бунта не имеет смысла. Однако древнегреческий раб, крепостной, кондотьер времен Возрождения, парижский буржуа эпохи Регентства, русский интеллигент 1900-х годов и современный рабочий, расходясь в своем понимании причин бунта, единодушно признали бы его законность. Иначе говоря, можно предположить, что проблема бунта имеет определенный смысл лишь в рамках западной мысли. Можно высказаться еще точнее, отметив вместе с Максом Шелером, что мятежный дух с трудом находил выражение в обществах, где неравенство было слишком велико (как в индусских кастах), или, наоборот, в тех обществах, где существовало абсолютное равенство (некоторые первобытные племена). В обществе бунтарский дух может возникнуть только в тех социальных группах, где за теоретическим равенством скрывается огромное фактическое неравенство. А это означает, что проблема бунта имеет смысл только в нашем западном обществе. В таком случае трудно было бы удержаться от соблазна утверждать, что эта проблема связана с развитием индивидуализма, если бы предыдущие размышления не насторожили нас против такого вывода.
Из замечания Шелера можно с очевидностью вывести лишь то, что в наших западных обществах благодаря теории политической свободы в человеческой душе укореняется высокое понятие о человеке и что вследствие практического использования этой свободы соответственно растет неудовлетворенность своим положением. Фактическая свобода развивается медленнее, чем представления человека о свободе. Из этого наблюдения можно вывести лишь следующее: бунт - это дело человека осведомленного, твердо знающего свои права. Но ничто не дает нам основания говорить только о правах индивида. Напротив, весьма вероятно, что благодаря уже упоминавшейся солидарности род человеческий все глубже и полнее осознает самого себя в ходе своей истории. Действительно, у инков или парий проблемы бунта не возникает, поскольку она была разрешена для них традицией: еще до того, как они могли поставить перед собой вопрос о бунте, ответ на него уже был дан в понятии священного. В сакрализованном мире нет проблемы бунта, как нет вообще никаких реальных проблем, поскольку все ответы даны раз и навсегда. Здесь место метафизики занимает миф. Нет никаких вопрошаний, есть только ответы и бесконечные комментарии к ним, которые могут быть и метафизическими. Но когда человек еще не вступил в сферу священного или уже вышел из нее, он есть вопрошание и бунт, причем вопрошает и бунтует он ради того, чтобы вступить в эту сферу или выйти оттуда. Человек бунтующий есть человек, живущий до или после священного, требующий человеческого порядка, при котором и ответы будут человеческими, то есть разумно сформулированными. С этого момента всякий вопрос, всякое слово является бунтом, тогда как в сакрализованном мире всякое слово есть акт благодати. Можно было бы, таким образом, показать, что для человеческого духа доступны только два универсума - универсум священного (или, если воспользоваться языком христианства, универсум благодати)4 и универсум бунта. Исчезновение одного означает возникновение другого, хотя это может происходить в озадачивающих формах. И тут мы вновь встречаемся с формулой "Все или ничего". Актуальность проблемы бунта определяется единственно тем, что сегодня целые общества стремятся обособиться от священного. Мы живем в десакрализованной истории. Конечно, человек не сводится к восстанию. Но сегодняшняя история с ее распрями вынуждает нас признать, что бунт - это одно из существенных измерений человека. Он является нашей исторической реальностью. И нам нужно не бежать от нее, а найти в ней наши ценности. Но можно ли, пребывая вне сферы священного и его абсолютных ценностей, обрести правило жизненного поведения? - таков вопрос, поставленный бунтом.
Мы уже имели возможность отметить некую неопределенную ценность, рождающуюся у того предела, за которым происходит восстание. Теперь пора спросить у себя, обретается ли эта ценность в современных формах бунтарской мысли и бунтарского действия, и, если это так, уточнить ее содержание. Но прежде чем продолжить рассуждения, заметим, что в основе этой ценности лежит бунт как таковой. Солидарность людей обусловливается бунтарским порывом, а он, в свой черед, находит себе оправдание только в их соучастии. Следовательно, мы вправе заявить, что любой бунт, позволяющий себе отрицать или разрушать человеческую солидарность, перестает в силу этого быть бунтов и в действительности совпадает с мертвящим соглашательством. Точно так же лишенная святости человеческая солидарность обретает жизнь лишь на уровне бунта. Тем самым заявляет о себе подлинная драма бунтарской мысли. Для того чтобы жить, человек должен бунтовать, но его бунт не должен нарушать границы, открытые бунтарем в самом себе, границы, за которыми люди, объединившись, начинают свое подлинное бытие. Бунтарская мысль не может обойтись без памяти, ей присуща постоянная напряженность. Следуя за ней в ее творениях и действиях, мы всякий раз должны спрашивать, остается ли она верной своему изначальному благородству или же от усталости и безумия забыла о нем - во хмелю тирании или раболепия.
А пока вот первый результат, которого добился мятежный дух благодаря рефлексии, проникнутой абсурдностью и ощущением очевидной бесплодности мира. В опыте абсурда страдание индивидуально. В бунтарском порыве оно осознает себя как коллективное. Оно оказывается общей участью. Первое достижение ума, скованного отчужденностью, состоит в понимании того, что он разделяет эту отчужденность со всеми людьми и что человеческая реальность страдает в своей целостности от обособленности, отчужденности по отношению к самой себе и к миру. Зло, испытанное одним человеком, становится чумой, заражающей всех. В наших повседневных испытаниях бунт играет такую же роль, какую играет "cogito" в порядке мышления; бунт - это первая очевидность. Но эта очевидность выводит индивида из его одиночества, она является тем общим, что лежит в основе первой ценности для всех людей. Я бунтую, следовательно, мы существуем.
1 Lalande. Vocabuiaire philosophique.
2 Сообщество жертв - явление того же порядка, что и сообщество жертвы и палача. Но палач об этом не ведает.
3 L"homme du ressentiment*.
4 Разумеется, возникновение христианства отмечено метафизическим бунтом, но воскресение Христа, провозвестие его второго пришествия и Царства Божия, понимаемое как обещание жизни вечной, - это ответы, которые делают бунт ненужным.
АБСОЛЮТНОЕ УТВЕРЖДЕНИЕ
Как только человек подвергает Бога моральной оценке, он убивает Бога в самом себе. Но на чем тогда основывается мораль. Бога отрицают во имя справедливости, но можно ли понять идею справедливости вне идеи Бога. Не оказываемся ли мы тогда в абсурдной ситуации? Это абсурдность, с которой столкнулся Ницше. Чтобы верней ее преодолеть, он доводит ее до предела: мораль - это последняя ипостась Бога; ее необходимо разрушить, чтобы затем построить заново. Бога тогда уже нет, и он уже не является гарантом нашего бытия; человеку надо решиться действовать, чтобы быть.
ЕДИНСТВЕННЫЙ
Уже Штирнер хотел сокрушить вслед за самим Богом и всякую идею о Боге в человеческом сознании. Но, в противоположность Ницше, нигилизм у него самодовольный. Штирнер посмеивается в тупике, а Ницше бросается на стены. С 1845 г, когда был издан "Единственный и его собственность", Штирнер принимается расчищать путь. Человек, посещавший кружок "Свободные" вместе с левыми младогегельянцами (среди которых был и Маркс), сводил счеты не только со Всевышним, но и с фейербаховским Человеком, с гегелевским Духом и его историческим воплощением - Государством. По мнению Штирнера, все эти идолы порождены все тем же "монгольством", верой в вечные идеи. Неудивительно, что он писал: "Ничто - вот на чем я построил свое дело". Конечно же грех - это "монгольская мука", но таков и свод законов, рабами которых мы являемся. Бог - это враг, в своем богохульстве Штирнер переходит все границы ("перевари Святые Дары - и ты будешь избавлен от них!"). Но Бог - это лишь одна из отчужденных форм моего "я", а точнее, того, чем я являюсь. Сократ, Иисус, Декарт, Гегель, все пророки и философы только и делали что изобретали новые способы отчуждать то, что я есть, то самое "я", которое Штирнер неизменно отличал от абсолютного "Я" Фихте, сводя первое к самому частному преходящему содержанию. "Имен для него нет", он Единственный.
Для Штирнера всеобщая история до Рождества Христова есть всего лишь многовековая попытка идеализировать действительность. Это усилие выражается в идеях и ритуалах очищения, присущих древним С приходом Иисуса цель достигнута и возникает другое усилие, направленное, наоборот, на реализацию идеала. За очищением следует страсть к воплощения которая все больше опустошает мир, по мере того как социализм, наследник Христа, расширяет свою власть. Всеобщая это не что иное, как многовековое посягательство история на уникальное начало, каковым является я, начало живое, конкретное, всепобеждающее, которое стремились подчинить игу таких сменяющих одна другую абстракций, как Бог, государство, общество, человечество. Для Штирнера филантропия - это мистификация. Атеистические философские учения, вершина которых - культ государства и человека, представляют собой не более чем "теологические мятежи". "Наши атеисты, - утверждает Штирнер, - в действительности набожные люди" По сути, на протяжении всей истории существовал лишь один культ - культ вечности. Этот культ есть ложь Истинен только единственный, враг вечного и всего того, что не служит воле единственного к господству.
Начиная со Штирнера, отрицание, воодушевляющее бунт, погребает под собой все утверждения. Оно отбрасывает суррогаты божественного, которыми засорено моральное сознание. "Потустороннее вне нас уничтожено, - заявляет Штирнер, - но потустороннее в нас стало новым небом". Даже революция, и в первую очередь революция, ненавистна этому бунтарю. Чтобы быть революционером, надо еще во что-то верить там, где верить не во что. "Когда после революции (французской) наступила реакция, то выяснилось, чем в действительности была Революция". Рабски служить человечеству ничем не лучше, чем служить Богу. В конце концов, братство "бывает у коммунистов только по воскресным дням". В остальные дни недели братья становятся рабами. Для Штирнера есть лишь одна свобода - "моя мощь" и лишь одна правда - "сиятельный эгоизм звезд".
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
- Введение
- Заключение
Введение
Тема данного исследования - философия бунта А. Камю по произведению «Человек бунтующий».
Актуальность исследования заключается в том, что "Бунтующий человек" - одно из последних произведений Альбера Камю и вершина его философского творчества. Книга начата во время войны и закончена в начале 1951 года. "Роды долгие, трудные, и мне кажется, что ребенок будет уродцем", - писал Камю о работе над этой книгой. "Бунтующий человек" мгновенно вызвал целую бурю критики, полемика вокруг книги Камю не прекращалась долго. Писатель настроил против себя и левых и правых. Коммунисты его обвиняли в пропаганде террористических актов против советского руководства, в том, что он "поджигатель войны" и продался американцам. «Бунтующий человек» поссорил Камю с просоветски настроенными левыми интеллектуалами, но его поддержали антиавторитарные социалисты: анархисты и революционные синдикалисты.
Цель исследования - проанализировать философию бунта А. Камю.
Задачи исследования:
Изучить философские предпосылки написания «Человека бунтующего»;
Проанализировать содержание и философское значение «Человека бунтующего» для философии XX века;
Выявить место «Человека бунтующего» в философской концепции А.Камю.
Объект исследования - произведение А. Камю «Человек бунтующий».
Предмет исследования - философия бунта А. Камю по произведению «Человек бунтующий».
1. Философские предпосылки написания «Человека бунтующего»
Искусство не является самоценным, это “творчество без завтрашнего дня”, приносящее радость реализующему себя художнику, занятому упорным созданием тленных произведений. Актер проживает одну за другой множество жизней на сцене, достоинством “абсурдной аскезы” писателя (и художника вообще) оказывается самодисциплина, “эффективная школа терпения и ясности”. Творец играет образами, создает миф, а тем самым и самого себя, поскольку между видимостью и бытием нет четкой границы.
Все рассуждения и зарисовки данного эссе резюмируются “мифом о Сизифе”. Если Ницше предложил утратившему христианскую веру человечеству миф о “вечном возвращении”, то Камю предлагает миф об утверждении самого себя - с максимальной ясностью ума, с пониманием выпавшего удела, человек должен нести бремя жизни, не смиряясь с ним - самоотдача и полнота существования важнее всех вершин, абсурдный человек избирает бунт против всех богов.
Ко времени завершения работы над “Мифом о Сизифе” у Камю уже накопились сомнения по поводу такого эстетического самоутверждения. Еще в рецензии на “Тошноту” Камю упрекал Сартра как раз за то, что бунт героя, Антуана Рокантена, свелся к “абсурдному творчеству”. В пьесе “Калигула” он фиксирует противоречие между абсурдом и простыми человеческими ценностями. Император Калигула из наблюдения “люди умирают и они несчастливы” сделал вполне приемлемые с точки зрения абсурда выводы и стал “бичом божьим”, “чумой”. Его антагонист в пьесе, Херея, убивает императора во имя человеческого стремления к счастью, но вынужден признать, что его выбор ничуть не более обоснован, чем злодеяния тирана. У “завоевателей” нет иной шкалы ценностей, кроме полноты переживания своих титанических усилий, но “все дозволено” годится тогда не только для облагороженных авантюристом Мальро, а и для реальных завоевателей, которые, как писал Камю еще в 1940 г., “изрядно преуспели, и на многие годы над истерзанной Европой, в краях, где не стало духа, нависло угрюмое безмолвие”. Вывод Камю в этом же эссе “Миндальные рощи” прямо противоположен эстетскому титанизму: “никогда больше не покоряться мечу, никогда более не признавать силу, которая не служит духу”. Ницше мог яростно обличать “каналью Сократа” в то время, когда высшие ценности оторвались от жизни и были опошлены мещанским лицемерием. Но сегодня именно эти ценности нуждаются в защите, когда эпоха угрожает отрицанием всякой культуры, а “Ницше рискует обрести такую победу, какой он и сам не желал”. Ницше был пророком этого “храброго нового мира”, Достоевский предсказывал появление цивилизации, “требующей сдирания кожи”, - Камю был не пророком, а очевидцем такой цивилизации, сделавшей ницшеанское “все дозволено” расхожей монетой.
Участие в Сопротивлении было поворотным пунктом в творчестве Камю. В “Письмах к немецкому другу” он сводит счеты с воображаемыми единомышленниками 30-х годов, объявившими, что в лишенном смысла мире допустимо сделать идола из нации, “расы господ”, призванной повелевать миллионами рабов. Такое мифотворчество вполне допустимо, из абсурда можно вывести и необходимость посвятить всю жизнь лечению прокаженных, и заполнению людьми лагерных печей. Совесть можно объявить химерой, дух - ложью, насилие превознести как героизм.
Многие интеллектуалы вынуждены были переоценить значимость блестящих афоризмов Ницше. Когда Камю в подполье писал “Письма немецкому другу”, эмигрант Томас Манн призывал интеллектуалов поставить крест на утонченном имморализме, сыгравшем свою роль в подготовке нигилизма “железа и крови”: “Время заострило нам совесть, показав, что у мысли есть обязательства перед жизнью и действительностью, обязательства, которые очень скверно исполняются, когда дух совершает харакири ради жизни. Есть спектакли в мышлении и литературе, впечатляющие нас меньше, чем прежде, кажущиеся скорее тупыми и кощунственными. Дух явно вступает сегодня в нравственную эпоху, эпоху нового нравственного и религиозного различения добра и зла”. Теперь бунт должен быть направлен прежде всего против той мифологии, которая несет с собою “грязный ужас и кровавую пену”. Интеллектуальный забавы “философии жизни”, хайдеггеровская экзальтация по поводу “бытия-к-смерти” и аутентичного выбора трансформировались в политические лозунги. Защищать ценности духа с помощью нигилистической философии невозможно. Но и принять какую-либо догматически установленную систему ценностей Камю не может - светский гуманизм, с его точки зрения, безосновен. В эссе “Загадка” Камю говорит о “верности свету”, о принадлежности к “недостойным, но верным сынам Греции”, находящим силы претерпеть и наш ошалевший от нигилизма век. Миром управляет не бессмыслица, а смысл, но его трудно расшифровать - ключом к этому ускользающему смыслу является бунт.
2. Содержание и философское значение «Человека бунтующего» для философии XX века
философский камю человек бунтующий
Ранняя философия Камю - это история идеи бунта - метафизического и политического - против несправедливости человеческого удела. Если первым вопросом “Мифа о Сизифе” был вопрос о допустимости самоубийства, то эта работа начинается с вопроса об оправданности убийства. Люди во все времена убивали друг друга, - это истина факта. Тот, кто убивает в порыве страсти, предстает перед судом, иногда отправляется на гильотину. Но сегодня подлинную угрозу представляют не эти преступные одиночки, а государственные чиновники, хладнокровно отправляющие на смерть миллионы людей, оправдывающие массовые убийства интересами нации, государственной безопасности, прогресса человечества, логикой истории.
Человек ХХ века оказался перед лицом тоталитарных идеологий, служащих оправданием убийства. Еще Паскаль в “Провинциальных письмах” возмущался казуистикой иезуитов, разрешавших убийство вопреки христианской заповеди. Безусловно, все церкви благословляли войны, казнили еретиков, но каждый христианин все-таки знал, что на скрижалях начертано “не убий”, что убийство - тягчайший грех. На скрижалях нашего века написано: “Убивай”. Камю в “Бунтующем человеке” прослеживает генеалогию этой максимы современных идеологий. Проблема заключается в том, что сами эти идеологии родились из идеи бунта, преобразившейся в нигилистическое “все дозволено”.
Камю считал, что исходный пункт его философии остался прежним - это абсурд, ставящий под сомнение все ценности. Абсурд, по его мнению, запрещает не только самоубийство, но и убийство, поскольку уничтожение себе подобного означает покушение на уникальный источник смысла, каковым является жизнь каждого человека. Однако из абсурдной установки “Мифа о Сизифе” не вытекает бунт, утверждающий самоценность другого. Бунт там придавал цену индивидуальной жизни - это “борьба интеллекта с превосходящей реальностью”, “зрелище человеческой гордыни”, “отказ от примирения”. Борьба с “чумой” тогда ничуть не более обоснована, чем донжуанство или кровавое своеволие Калигулы.
«Конечно, человек не сводится к восстанию. Но сегодняшняя история с ее распрями, вынуждает нас признать, что бунт - это одно из существенных измерений человека. Он является нашей исторической реальностью. И нам надо не бежать от нее, а найти в ней наши ценности». Тот бунт, который тождественен самой жизни, не совпадает со стремлением ко всеобщему разрушению: ведь вырастает он из стремления к порядку и гармонии, которых в мире нет. Следовательно, «бунт является силой жизни, а не смерти. Его глубочайшая логика - логика не разрушения, а созидания». По Камю бунт - это способ бытия человека, способ борьбы против абсурда.
После выхода в свет «Бунтующего человека» пути Камю и французских левых интеллектуалов разошлись окончательно. В этой книге, главном произведение Альбера Камю, рассматривается история европейского нигилизма, начиная с маркиза де Сада и якобинцев и заканчивая нацизмом и сталинизмом. Начинается книга с «теоремы бунта». Бунт начинается, когда раб говорит господину «нет». Но это «нет» одновременно означает «да». Раб доказывает, «что в нем есть нечто стоящее и нуждающееся в защите». В бунте рождается сознание: «внезапное яркое чувство того, что в человеке есть нечто, с чем он может отождествить себя хотя бы на время». Это «нечто» превосходит самого индивида и объединяет его с остальными людьми. Уже в первой главе Камю выступает противником экзистенциализма сартровского толка: «…Эта предсуществующая ценность, данная до всякого действия, вступает в противоречие с чисто историческими философскими учениями, согласно которым ценность завоевывается (если она вообще может быть завоевана) лишь в результате действия. Анализ бунта приводит по меньшей мере к догадке, что человеческая природа действительно существует, согласно представлениям древних греков и вопреки постулатам современной философии». Человеческая природа есть то, что объединяет бунтаря со всеми угнетенными и со всем человечеством, включая предавшего солидарность угнетателя. «Я бунтую, следовательно, мы существуем», - говорит Камю.
Но всегда существует искушение предать равновесие бунта и выбрать либо тотальное согласие, либо тотальное отрицание. Камю рассматривает искушения метафизического, исторического и литературного бунта.
Метафизический бунт есть преступление против меры. Это - не восстание раба против господина, а восстание человека против уготованного ему удела. «Все говорят: «Нет правды на земле». Но правды нет и выше». Архетип метафизического бунта - Прометей. Но герой греческой мифологии восстает не против всесильного Бога христианства, а против Зевса. Зевс - всего лишь один из богов, и дни его сочтены. Для греков любой бунт - это бунт против несправедливости во имя природы. Метафизические бунтари - дети Каина, а не Прометея. Их враг - безжалостный Бог Ветхого Завета. Истоки метафизического бунта те же, что и бунта вообще. «…Сад и романтики, Карамазов и Ницше вошли в царство смерти только потому, что хотели подлинной жизни». Они сражались с абстракциями и во имя абстракций. Анархо-индивидуалист Штирнер отвергает любые абстракции, любые идеалы во имя свободной личности, Единственного. Но Единственный Штирнера сам оказывается в этом случае голой абстракцией. Ницше отрицает христианскую «мораль рабов» и говорит «да» всему земному. Но сказать «да» всему, значит сказать «да» и убийству, и несправедливостям. Абсолютный бунт заканчивается абсолютным конформизмом. Ученики Ницше во имя царства сверхчеловека создадут кровавый режим недочеловеков. Прометей превратится в Цезаря. Метафизический бунт в литературе, начиная с маркиза де Сада и заканчивая сюрреалистами, вырождается в пустое позерство и, опять же, примирение с диктатурой и несправедливостью.
Порожденный Великой французской революцией исторический бунт - логическое продолжение бунта метафизического. Якобинцы убивали людей во имя абстракции, именуемой ими добродетелью. Большевики не признают добродетели, а признают лишь историческую эффективность. Настоящее приносится в жертву будущему.
Он превращается в отрицание всех ценностей и выливается в зверское своеволие, когда бунтарь сам делается “человекобогом”, унаследовавшим у отринутого им божества все то, что так ненавидел - абсолютизм, претензии на последнюю и окончательную истину (“истина одна, заблуждений много”), провиденциализм, всезнание, слова “заставьте их войти”. В земной рай этот выродившийся Прометей готов загонять силою, а при малейшем сопротивлении устраивает такой террор, в сравнении с которым костры инквизиции кажутся детской забавой.
Метафизический бунт де Сада, денди, романтиков, проклятых поэтов, сюрреалистов, Штирнера, Ницше и т.д. - таковы этапы европейского нигилизма, эволюция “человекобожества”. Вместе с космическим вседержителем богоубийцы отрицают и всякий нравственный миропорядок. Метафизический бунт постепенно сливается с бунтом историческим. Людовика XVI казнят еще во имя торжества “всеобщей воли” и добродетели, но вместе с принцепсом убиты и все прежние принципы. “От гуманитарных идиллий ХУШ века и кровавым эшафотам пролегает прямой путь, - писал Камю в “Размышлении о гильотине”, - и как всем известно, сегодняшние палачи - это гуманисты”. Еще один шаг - и восставшими массами руководят полностью освободившиеся от человеческой морали человекобоги, настает время “шигалевщины”, а она в свою очередь возводит на трон новых цезарей.
3. Место «Человека бунтующего» в философской концепции А.Камю
Такое соединение метафизического бунта с историческим было опосредовано “немецкой идеологией”. В разгар работы над “Бунтующим человеком” Камю говорил, что “злые гении Европы носят имена философов: их зовут Гегель, Маркс и Ницше… Мы живем в их Европе, в Европе, ими созданной”. Несмотря на очевидные различия в воззрениях этих мыслителей (а также Фейербаха, Штирнера), Камю объединяет их в “немецкую идеологию”, породившую современный нигилизм.
Чтобы понять основания, по которым эти мыслители были включены в ряд “злых гениев”, необходимо, во-первых, вспомнить об общественно-политической ситуации, а во-вторых, понять, под каким углом зрения рассматриваются их теории.
Камю писал “Бунтующего человека” в 1950 г., когда сталинская система, казалось, достигла апогея своего могущества, а марксистское учение превратилось в государственную идеологию. В Восточной Европе шли политические судилища, из СССР доходили сведения о миллионах заключенных; только что эта система распространилась на Китай, началась война в Корее - в любой момент она могла вспыхнуть в Европе. Политические воззрения Камю изменились к концу 40-х годов, о революции он более не помышляет, поскольку за нее в Европе пришлось бы платить десятками миллионов жертв (если не гибелью всего человечества в мировой войне). Необходимы постепенные реформы - Камю оставался сторонником социализма, он равно высоко ставил деятельность тред-юнионов, скандинавской социал-демократии и “либертарного социализма”. В обоих случаях социалисты стремятся освободить ныне живущего человека, а не призывают жертвовать жизнями нескольких поколений ради какого-то рая земного. Такая жертва не приближает, а отдаляет “царство человека” - путем ликвидации свободы, насаждения тоталитарных режимов к нему нет доступа.
Камю допускает немало неточностей в толковании воззрений Гегеля, Маркса, Ленина, но такое видение трудов “классиков” вполне объяснимо. Он рассматривает именно те их идеи, которые вошли в сталинский “канон”, пропагандировались как единственное верное учение, использовались для обоснования бюрократического централизма и “вождизма”. Кроме того, он ведет полемику с Мерло-Понти и Сартром, взявшимися оправдывать тоталитаризм с помощью гегелевской “Феноменологии духа”, учения о “тотальности истории”. История перестает быть учительницей жизни, она делается неумолимым идолом, которому приносятся все новые жертвы. Трансцендентные ценности растворяются в историческом становлении, законы экономики сами влекут человечество в рай земной, но в то же время они требуют уничтожения всех, кто им противится.
Предметом рассмотрения Камю является трагедия философии, превращающейся в “пророчество”, в идеологию, оправдывающую государственный террор. Божеством “немецкой идеологии” сделалась история, священнослужителями новой религии стали пропагандисты и следователи. “Пророчество” обладает собственной логикой развития, которая может не иметь ничего общего с благими намерениями философа-бунтаря. Однако вопрос об ответственности мыслителей ставится Камю вполне оправданно: ни Маркс, ни Ницше не одобрили бы деяний своих “учеников”, но из их теорий можно было сделать пригодные для новых цезарей выводы, тогда как из этики Канта или Толстого, политических теорий Локка или Монтескье необходимость массовых убийств не вывести.
Но признание определенной ответственности мыслителей за свои идеи, слова все же не стоит смешивать с ответственностью за дела, тогда как у Камю иногда отсутствует четкое их разделение. Всякая разработанная идеологическая система предполагает такое переосмысление истории, что не только современные, но даже античные мыслители превращаются в предтеч и даже в “борцов”, становятся непререкаемыми авторитетами. За интерпретацию несут ответственность интерпретаторы, а им нужны только те мысли, которые соответствуют политической конъюнктуре. Она создается не философскими теориями и даже не самими идеологиями. Тоталитарные режимы появились в Европе в итоге первой мировой войны, которую ни в малейшей мере не подготавливали ни Маркс, ни Ницше, ни все перечисленные Камю метафизические бунтари, поэты, анархисты. Моральные и политические принципы европейской цивилизации рухнули в траншеи войны, которую оправдывали с амвонов и университетских кафедр, ссылаясь вовсе не на каких-то нигилистов, а на христианские заповеди, моральные и политические ценности. Не будь этой войны, Гитлер остался бы неудачливым художником-копинистом, Муссолини редактировал бы газету, о Троцком и Сталине можно было бы прочитать лишь в примечаниях к какому-то чрезвычайно дотошному труду по истории рабочего движения. История идей важна для понимания европейской истории в целом, но вторая не исчерпывается первой.
Параллельно изменениям философских и политических воззрений Камю менялось и его понимание искусства. В юности, осмысливая свои первые художественные опыты, Камю считал искусство прекрасной иллюзией, которая хотя бы на краткое время дает забвение боли и страдания. Даже о музыке он рассуждал на манер Шопенгауэра, хотя она никогда не занимала большого места в духовной жизни Камю (помимо литературы и театра, коими он занимался профессионально, ему были близки скульптура и живопись). Но очень скоро Камю приходит к мысли, что эстетическое бегство от действительности невозможно, “бесплодную сумеречную мечтательность” должно заменить искусство как “свидетельство” - яркий свет художественного произведения высвечивает жизнь, которую нужно принять, сказать ей “да”, не зная ни злобы на мир, ни удовлетворенности. Близость Камю ницшеанству ограничивается этим жизнеутверждением, ничего “сверхчеловеческого” он не признает, кроме прекрасной природы. Принятие жизни такой, как она есть, - это не “разнуздание чувств” Рембо, подхваченное сюрреалистами. Помимо прекрасного лица жизни есть еще и ее изнанка - к ней относится социальная реальность. Размышления о том, как совместить служение искусству и политическую деятельность, начинаются еще в 30-е годы, когда Камю играл в “Театре “труда” и организовывал “Дом культуры” для рабочих.
Эта тема выходит на первый план в 40-50-е годы, когда Камю отказывается от абсурдного “самопреодоления” посредством художественного творчества. Всякое “искусство для искусства” им недвусмысленно осуждается: эстетизм, дендизм в искусстве неизбежно идут рука об руку с фарисейством. В башне из слоновой кости художник утрачивает связь с реальностью. “Ошибкой современного искусства” он считал сосредоточение всего внимания на технике, форме - средства ставятся вперед цели. Но бесплодность грозит художнику и тогда, когда он делается “инженером душ”, идеологическим “бойцом”. Искусство умирает в апологетике.
И в искусстве, и в политике Камю призывает не отдавать человека на откуп абстракциям прогресса, утопии, истории. В человеческой природе есть нечто постоянное, если не вечное. Природа вообще сильнее истории: обратившись к собственной натуре, к неизменному в потоке изменений, человек спасается от нигилизма. Ясно, что речь идет не о христианском понимании человека. Иисус Христос для Камю - не Сын Божий, а один из невинных мучеников истории, он ничем не отличается от миллионов других жертв. Людей объединяет не Христос, не мистическое тело церкви, а реальные страдания и рождающиеся из страданий бунт и солидарность. Есть одна истинно кафолическая церковь, объединяющая всех когда-либо существовавших людей; ее апостолами являются все бунтари, утверждавшие свободу, достоинство, красоту. Человеческая природа не имеет ни чего общего с божественной, нужно ограничиться тем, что дано природой, а не изобретать богочеловечество или человекобожество.
Мы имеем дело с вариантом светского гуманизма, главным источником которого является античность. Безмерности “фаустовской души” Камю противопоставляет “аполлоновскую душу” - с идеалами гармонии, меры, предела. Европа является наследницей не только христианского монотеизма и “немецкой идеологии”, но также солнечного язычества, средиземноморской “ясности видения”. Средиземноморская цивилизация для Камю - это Афины, а не “унтер-офицерская цивилизация Рима”. Не случайно он обращается к “непобедимому солнцу” (Sol. Invictus) митраизма, которое совпадает со светом разума, сопоставляется с образом солнца в платоновском “мифе о пещере”.
Речь, таким образом, идет не об исторической Древней Греции, которая знавала не только аполлоновский свет, - Камю создает свой собственный солнечный миф, в котором занимают свои места и Сизиф, и Прометей, и Сократ. Ницшеанское дионисийство теперь отходит на второй план, этика Камю непосредственно связана с сократовской: “Зло, существующее в мире, почти всегда результат невежества, и любая добрая воля может принести столько же ущерба, что и злая, если только эта добрая воля недостаточно просвещена. Люди - они скорее хорошие, чем плохие, и, в сущности, не в этом дело. Но они в той или ной степени пребывают в неведении, и это-то зовется добродетелью или пороком, причем самым страшным пороком является неведение, считающее, что ему все ведомо, и разрешающее себе посему убивать. Душа убийцы слепа, и не существует ни подлинной доброты, ни самой прекрасной любви без абсолютной ясности видения” (“Чума”). Сократовская этика “видения” и “ведения”, стоическое “мужество быть”, определяемое Тиллихом как “мужество утверждения собственной разумной природы вопреки всему тому, что есть в нас случайного”, преобладают в позднем творчестве Камю.
Соответственно перетолковывается и титанический бунт Прометея, сделавшийся в западноевропейской мысли символом и технологической утопии, и революционной практики. Бунт Прометея не обещает ни окончательного освобождения, ни спасения. Этот протест против удела человеческого всегда обречен на поражение, но он всегда возобновляется, как и труд Сизифа. Можно улучшить какие-то конкретные обстоятельства и уменьшить страдания, но от смертности и забвения избавиться невозможно. Бунт направлен не на разрушение, а на частичное улучшение космического порядка. Человек телесен, плоть связует нас с миром, она является источником как радостей земных, так и страданий. На плоти нет первородного греха, но агрессивность, жестокость также укоренены в нашей природе. Отменить ее каким-то “аутентичным выбором” экзистенциалистов мы не в состоянии. Наша свобода всегда ограничена и сводится к выбору между различными страстями и импульсами. Для такого выбора требуется ясность видения, помогающая преодолевать все низменное в себе самих. Понятно, что такого рода “аскеза” имеет мало общего с ницшеанством, от коего остается только идеал “самопреодоления”; однако при всех достоинствах подобной этики в сравнении с нигилизмом она имеет ограниченный и формальный характер. Она налагает запрет на убийство и порабощение другого, но за ее пределами остаются сложнейшие формы взаимоотношений между людьми. Орна требует “абсолютной ясности видения”, но таковая недоступна человеку, и бунт всегда может перерасти в своеволие. Героическая античная мораль не знала запрета ни на убийство, ни на самоубийство, она в лучшем случае требует “ведения”, но никак не всечеловеческой солидарности. Впрочем, Камю не ставил перед собой задачу создания новой этической системы. Вывести все этические ценности из бунта вряд ли возможно, но ясно, против чего он направлен. “Я ненавижу только палачей” - вот, пожалуй, самое краткое и точное определение социальной и моральной позиции Камю.
Заключение
Таким образом, философию бунта А. Камю можно сформулировать таким образом: Камю пытается найти ответ на великий вопрос, во всей остроте поставленный перед человеком современной эпохой: что мне делать и можно ли жить, если Бога нет, мир не имеет смысла, а я смертен? Для Камю абсурд, изначальная дочеловеческая и внечеловеческая бессмысленность мироздания, есть стихия человеческого существования, и поэтому достойным ответом человека на этот абсурд как раз и является непрерывный, безнадежный и героический бунт. Знать о своей смерти, не убегая от этого горького знания, и тем не менее жить, вносить в бессмысленный мир свой человеческий смысл - это уже означает «бунтовать». В таком бунте рождаются все человеческие ценности: смысл, свобода, творчество, солидарность. По Камю, абсурд начинает иметь смысл, когда с ним не соглашаются. Бунт изначально обречен на поражение, ибо смертен и отдельный человек, и человечество в целом.
Именно в бунте человек - единственное животное, способное к бунту, к осознанию своей смертности, свободы и ответственности, - утверждает и свою личную индивидуальность, и общечеловеческую солидарность, и человеческий смысл, выраженный Камю в лаконичной формуле: «Я бунтую, следовательно, я существую». Тем самым категория «бунт» из метафоры или узкополитического понятия превращается в важную характеристику человеческого существования.
В произведении же «Человек бунтующий» у Камю меняется само содержание понятий “абсурд” и “бунт”, поскольку из них рождается уже не индивидуалистический мятеж, а требование человеческой солидарности, общего для всех людей смысла существования. Бунтарь встает с колен, говорит “нет” угнетателю, проводит границу, с которой отныне должен считаться тот, кто полагал себя господином. Отказ от рабского удела одновременно утверждает свободу, равенство и человеческое достоинство каждого. Однако мятежный раб может сам перейти этот предел, он желает сделаться господином, и бунт превращается в кровавую диктатуру. В прошлом, по мнению Камю, революционное движение “никогда реально не отрывалось от своих моральных, евангелических и идеалистических корней”. Сегодня политический бунт соединился с метафизическим, освободившим современного человека от всех ценностей, а потому он и выливается в тиранию. Сам по себе метафизический бунт также имеет оправдание, пока восстание против небесного всевластного Демиурга означает отказ от примирения со своим уделом, утверждение достоинства земного существования.
Список использованной литературы
1. Великовский С.И. В поисках утраченного смысла. - М., 1979.
2. Великовский С.И. Грани несчастного сознания. - М., 1973.
3. Зотов А.Ф., Мельвиль Ю.К.. Западная философия ХХ века. - М. «Проспект», 1998.
4. Камю А. Бунтующий человек. - М.: Политиздат. - 1990.
5. Кушкин Е.П. Альбер Камю. Ранние годы. - Л., 1982.
6. Рябов П. В. Человек бунтующий - философия бунта у Михаила Бакунина и Альбера Камю // Возрождение России: проблема ценностей в диалоге культур. Материалы 2-й Всероссийской научной конференции. Ч.1. Нижний Новгород, 1994. С.74-76
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Тема абсурда и самоубийства, путей преодоления абсурдности бытия в творчестве Альбера Камю. Сущность человека бунтующего и анализ метафизического, исторического бунта в философском эссе "Человек бунтующий". Размышления Камю об искусстве как форме бунта.
реферат , добавлен 30.11.2010
Единство объекта и субъекта (человека и мира) в основе экзистенциализма как философского направления XX века. Сущность и особенности экзистенциалистской философии Жан-Поля Сартра и Альбера Камю. Влияние философии экзистенциализма на жизнь человека.
реферат , добавлен 23.09.2016
Проблема абсурда и сознания. Идея абсурда у Камю. Сравнение с пониманием абсурда Достоевским. Идея самоубийства у Камю. Нелогичность логического самоубийства. Отношение Достоевского и Камю к религии и Богу. Метафизический, нигилизм и исторический бунт.
курсовая работа , добавлен 06.11.2016
Экзистенциализм как философское направление. Влияние абсурда на человеческое бытие. Повесть "Посторонний" Альбера Камю, основанная на философском мировоззрении автора, осознании абсурдности бытия и неразумности мира, что является первопричиной бунта.
реферат , добавлен 12.01.2011
Биография Альбера Камю, его творчество и центр философии экзистенциалиста. Жизнеутверждающий характер понятий абсурда и бунта. Переоценка человеком своей жизни как первоисточник борьбы против бессмысленности существования через повседневную деятельность.
реферат , добавлен 04.01.2011
Экзистенциализм как особое направление в философии, акцентирующее своё внимание на уникальности бытия человека. Вклад в глубокое понимание духовной жизни человека Альбер Камю. Борьба человека за обретение свободы через несчастья и их преодоление.
эссе , добавлен 27.05.2014
Альбер Камю - французский писатель и философ, "Совесть Запада". Ориентированность произведений Камю на социальные явления. Готовность людей покончить с собой ради идей или иллюзий, служащих основанием их жизни. Связь между абсурдом и самоубийством.
эссе , добавлен 29.04.2012
Экзистенциализм как умонастроение человека XX века, утратившего веру в разум исторический и научный. "Миф о Сизифе" Альбера Камю, место темы самоубийства в работе. Жизнь и смерть, смысл жизни как вечные темы искусства и экзистенциалистской философии.
презентация , добавлен 16.12.2013
Отношение к добровольной смерти как к свободе в учении древнеримского философа-стоика Сенеки. Взгляд на проблему самоубийства Альбера Камю. Его осознание жизни как иррационалистического хаотического потока. Возможность реализации человека в мире абсурда.
реферат , добавлен 03.05.2016
Позитивизм. "Философия жизни" как оппозиция классическому рационализму. Экзистенциализм. Фундаментальная онтология Хайдеггера. "Философия существования" Ясперса. "Философия свободы" Сартра. "Бунтующий человек" Камю. Философская герменевтика Гадамера.
Альбер Камю
Бунтующий человек
ЖАНУ ГРЕНЬЕ
И сердце
Открыто отдалось суровой
Страдающей земле, и часто ночью
В священном мраке клялся я тебе
Любить ее бестрепетно до смерти,
Не отступаясь от ее загадок
Так я с землею заключил союз
На жизнь и смерть.
Гелъдерлт «Смерть Эмпедокла»
ВВЕДЕНИЕ
Есть преступления, вызванные страстью, и преступления, продиктованные бесстрастной логикой. Чтобы различить их, уголовный кодекс пользуется удобства ради таким понятием, как «предумышленность». Мы живем в эпоху мастерски выполненных преступных замыслов. Современные правонарушители давно уже не те наивные дети, которые ожидают, что их, любя, простят. Это люди зрелого ума, и у них есть неопровержимое оправдание - философия, которая может служить чему угодно и способна даже превратить убийцу в судью. Хитклиф, герой «Грозового перевала», готов уничтожить весь шар земной, лишь бы только обладать Кэтти, но ему бы и в голову не пришло заявить, что такая гекатомба разумна и может быть оправдана философской системой. Хитклиф способен на убийство, но дальше этого его мысль не идет. В его преступной решимости чувствуется сила страсти и характера. Поскольку такая любовная одержимость - явление редкое, убийство остается исключением из правила. Это что-то вроде взлома квартиры. Но с того момента, когда по слабохарактерности преступник прибегает к помощи философской доктрины, с того момента, когда преступление само себя обосновывает, оно, пользуясь всевозможными силлогизмами, разрастается так же, как сама мысль. Раньше злодеяние было одиноким, словно крик, а теперь оно столь же универсально, как наука. Еще вчера преследуемое по суду, сегодня преступление стало законом.
Пусть никого не возмущает сказанное. Цель моего эссе - осмыслить реальность логического преступления, характерного для нашего времени, и тщательно изучить способы его оправдания. Это попытка понять нашу современность. Некоторые, вероятно, считают, что эпоха, за полстолетия обездолившая, поработившая или уничтожившая семьдесят миллионов человек, должна быть прежде всего осуждена, и только осуждена. Но надо еще и понять суть ее вины. В былые наивные времена, когда тиран ради вящей славы сметал с лица земли целые города, когда прикованный к победной колеснице невольник брел по чужим праздничным улицам, когда пленника бросали на съедение хищникам, чтобы потешить толпу, тогда перед фактом столь простодушных злодейств совесть могла оставаться спокойной, а мысль ясной. Но загоны для рабов, осененные знаменем свободы, массовые уничтожения людей, оправдываемые любовью к человеку или тягой к сверхчеловеческому, - такие явления в определенном смысле просто обезоруживают моральный суд. В новые времена, когда злой умысел рядится в одеяния невинности, по странному извращению, характерному для нашей эпохи, именно невинность вынуждена оправдываться. В своем эссе я хочу принять этот необычный вызов, с тем, чтобы как можно глубже понять его.
Необходимо разобраться, способна ли невинность отказаться от убийства. Мы можем действовать только в свою эпоху среди окружающих нас людей. Мы ничего не сумеем сделать, если не будем знать, имеем ли право убивать ближнего или давать свое согласие на его убийство. Поскольку сегодня любой поступок пролагает путь к прямому или косвенному убийству, мы не можем действовать, не уяснив прежде, должны ли мы обрекать людей на смерть, и если должны, то во имя чего.
Нам важно пока не столько докопаться до сути вещей, сколько выяснить, как вести себя в мире - таком, каков он есть. Во времена отрицания небесполезно определить свое отношение к проблеме самоубийства. Во времена идеологий необходимо разобраться, каково наше отношение к убийству. Если для него находятся оправдания, значит, наша эпоха и мы сами вполне соответствуем друг другу. Если же таких оправданий нет, это означает, что мы пребываем в безумии, и у нас есть только один выход» либо соответствовать эпохе убийства, либо отвернуться от нее. Во всяком случае, нужно четко ответить на вопрос, поставленный перед нами нашим кровавым многоголосым столетием. Ведь мы и сами под вопросом. Тридцать лет тому назад, прежде чем решиться на убийство, люди отрицали многое, отрицали даже самих себя посредством самоубийства. Бог плутует в игре, а вместе с ним и все смертные, включая меня самого, поэтому не лучше ли мне умереть? Проблемой было самоубийство. Сегодня идеология отрицает только чужих, объявляя их нечестными игроками. Теперь убивают не себя, а других. И каждое утро увешанные медалями душегубы входят в камеры-одиночки: проблемой стало убийство.
Эти два рассуждения связаны друг с другом. Вернее, они связывают нас, да так крепко, что мы уже не можем сами выбирать себе проблемы. Это они, проблемы, поочередно выбирают нас. Примем же нашу избранность. Перед лицом бунта и убийства я в этом эссе хочу продолжить размышления, начальными темами которых были самоубийство и абсурд.
Но пока что это размышление подвело нас только к одному понятию - понятию абсурда. Оно, в свою очередь, не дает нам ничего, кроме противоречий во всем, что касается проблемы убийства. Когда пытаешься извлечь из чувства абсурда правила Действия, обнаруживается, что вследствие этого чувства убийство воспринимается в лучшем случае безразлично и, следовательно, становится допустимым. Если ни во что не веришь, если ни в чем не видишь смысла и не можешь утверждать никакую ценность, все дозволено и ничто не имеет значения. Нет доводов «за», нет доводов «против», убийцу невозможно ни осудить, ни оправдать. Что сжигать людей в газовых печах, что посвящать свою жизнь уходу за прокаженными - разницы никакой. Добродетель и злой умысел становятся делом случая или каприза.
И вот приходишь к решению вообще не действовать, а это означает, что ты, во всяком случае, миришься с убийством, которое совершено другим. Тебе же остается разве что сокрушаться о несовершенстве человеческой природы. А почему бы еще не подменить действие трагическим дилетантизмом? В таком случае человеческая жизнь оказывается ставкой в игре. Можно, наконец, замыслить действие не совсем бесцельное. И тогда, за неимением высшей ценности, направляющей действие, оно будет ориентировано на непосредственный результат. Если нет ни истинного, ни ложного, ни хорошего, ни дурного, правилом становится максимальная эффективность самого действия, то есть сила. И тогда надо разделять людей не на праведников и грешников, а на господ и рабов. Так что, с какой стороны ни смотреть, дух отрицания и нигилизма отводит убийству почетное место.