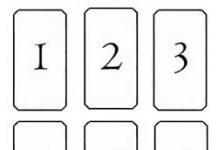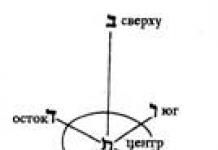Грамоте Стефан выучился ещё в Галиции, а дальнейшее образование получил в Киево-Могилянской коллегии . Преподавание здесь велось на латинском языке , в духе строго схоластическом . В последние годы своего пребывания в коллегии Яворский мог воспользоваться лекциями по богословию и философии известного схоласта Иоасафа Кроковского и приобрёл покровителя в лице Варлаама Ясинского , позднее митрополита Киевского. В 1684 году он написал в его честь панегирик : «Hercules post Atlantem, infracto virtutum robore honorarium pondus sustinens», где Геркулес - Ясинский, а Атлант - его предшественник Гизель . Панегирик написан на латинском языке, стихами и прозой, вперемежку с польскими стихами.
Униатство
Покаяние и монашество
Епископ
Приблизительно в это время разыгрался инцидент с Феофаном Прокоповичем. Стефан не желал, чтобы Феофану досталось епископское место. Он видел в его учениях, в его лекциях сильные следы протестантского влияния. Царь выслушал оправдания Феофана и назначил его епископом; Стефан должен был принести извинение перед Феофаном. Он сделал это, чувствуя себя правым. Церковно-административная деятельность Стефана совершенно прекратилась; он не принимал никакого участия в подготовительных действиях к церковной реформе, без него писался Духовный регламент , церковное управление также шло мимо его рук.
Стефан пытался выяснить свое положение и в 1718 году спрашивал царя: 1) возвратиться ли ему в Москву или жить в Петербурге, 2) где жить в Петербурге, 3) как управлять ему издали своей епархией, 4) вызывать ли архиереев в Петербург, 5) как замещать архиерейские места. Царь предписал ему жить в Петербурге, построить подворье на свои деньги, Рязанской епархией управлять через крутицкого архиепископа и т. д. В конце царь писал: «...а для лучшего впредь управления мнится быть должно надобной коллегии, дабы удобнее впредь такое великое дело управлять было возможно». В феврале 1720 года Устав Духовной коллегии был утвержден; через год был открыт Синод ; президентом Синода царь назначил Стефана, меньше всех других сочувствовавшего этому учреждению. Стефан отказывался подписывать протоколы Синода, не бывал в его заседаниях. Никакого влияния на синодальные дела Стефан не имел; царь, очевидно, держал его только для того, чтобы, пользуясь его именем, придать известную санкцию новому учреждению. За все время пребывания в Синоде Стефан находился под следствием по политическим делам. То его оговаривал кабальный человек Любимов в том, что он сочувственно относился к его, Любимова, сочинениям (); то монах Левин показывал, что Стефан будто бы говорил ему: «государь меня определял в Синод, а я не хотел, и за то стоял пред ним на коленях под мечом», и ещё: «и сам я желаю в Польшу отъехать» (). При ближайшем исследовании оговоры оказывались не имеющими оснований, но Стефана постоянно допрашивали. В своей привязанности к основанному им в Нежине монастырю он тоже не находил утешения, потому что обнаружил большое хищение денег, присланных им на устройство монастыря. Все эти неприятности сокращали жизнь Стефану. Свою библиотеку он пожертвовал Нежинскому монастырю, присоединив к каталогу книг трогательную элегию на латинском языке.
Умер в Москве 24 ноября 1722 года . Тело его было отправлено в Рязань, где и погребено в Успенском соборе.
В поэзии Петровского времени можно выделить две струи - устную, народную, отражающую ощущения широких народных масс, и виршевую, создававшуюся «образованной» верхушкой общества. Необходимо подчеркнуть, что поэтические произведения фольклорного типа в отдельных случаях создавались и представителями привилегированных слоев общества. Например недавно доказано, что в конце XVII в. был поэт, который писал прекрасные песни, ничем не отличающиеся от народных песен, - это стольник Петр Квашнин. Интересно, что он уже пробует писать и силлабические вирши, которые у него выходят гораздо хуже.
Другой пример - известная песня - «То не пал туман на сине-море» - о воине, который умирает на чужбине и своему коню завещает вернуться к родным и рассказать жене, что он умирает: «Ты скажи моей молодой жене, что женился я на другой жене... » и т. д. Эта прекрасная песня стала народной. По словам Н. А. Львова - составителя песенника Прача, эта песня сочинена его дедом, когда он возвращался из Персидского похода 1722 г. Это указание можно подвергнуть сомнению, потому что само содержание песни очень популярно и знакомо. На ту же тему существует близкая монгольская песня времен Чингиз-хана. Это несомненно - странствующий сюжет. Деду Львова, вероятно, принадлежит лишь одна из обработок этой песни.
Совсем иной характер - сугубо книжный - носило виршетворчество Петровской эпохи. Характерно, что существенную роль в этом жанре играло начертание, зрительное впечатление. Таковы, например, азбуковники, идущие из Византии и у нас популярные уже в XI в. У нас существовали переводные и оригинальные азбучные молитвы, прославления, приветствия, акафисты. Но самая интересная форма азбуковников, которая характерна для Петровского времени, - это бытовые повести в стихах, относящиеся ко второй половине XVII и началу XVIII в. Мы знаем три таких повести в стихах: «О прекрасной девице», затем автобиография подьячего Семена Левицкого, наконец, появившаяся несколько позже замечательная повесть, от которой до нас сохранился отрывок, только конец, - повесть, условно названная исследователями «Роман в стихах».
Такая форма повестей-азбуковников продолжалась и несколько позднее, но серьезное значение она уже перестала иметь.
Составление таких азбуковников требовало известного мастерства. Ничего, конечно, не стоило начать стих с буквы а, б и т. д., но когда дело доходило до последних букв славянских, то здесь вставали большие затруднения. Так, например, было невозможно или очень трудно начать стих с ер или с ять или с кси и пси .
Относительно пси был определенный выход из положения: обычно начинали стих со слов псы, псовый и т. д. В отношении кси можно было проявить больше творчества. Здесь встречаются такие слова, как, например, в «Романе в стихах» имя Ксения , или в биографии подьячего стих начинается со слов к сей . Но как быть с ять ? Иногда просто писали слова, начинающиеся с этой буквы, например едет , а иногда брали само произношение, например яти , т. е. взять . Что касается до ер , то мы встречаем, например, такие слова, как ерзнул (дерзнул), или встречаем вместо еры - яры , например ярость, ярыжник и т. д.
Еще более, чем азбуковники, рассчитаны были на зрительное восприятие акростихи. Акростих - также характерное явление для ранней Петровской эпохи (как и для до-Петровской), и не только акростих, но и мизостих, где нужные буквы помещались в середине строчки. Иногда это было очень трудно и для автора и для читателя. Особенно любили акростихи ученые монахи-писатели. Есть акростихи, например, у Димитрия Ростовского, у Федора Поликарпова и Кариона Истомина. Они не чуждаются при этом разных ухищрений. Например Карион Истомин, желая вместить в акростих двадцать букв, составляющих вместе сочетание трех слов «худ Карион Истомин», - девять букв, составляющих два первых слова «худ Карион», размещает как начальные буквы в девяти первых стихах, а фамилию свою вмещает в один десятый стих, состоящий у него из четырех слов, начальные звуки которых и составляют его фамилию Ист-о-ми-н. «ИСТину Оным МИлости Наздати».
Ясно, что здесь начертания играли самую существенную роль в работе над стихом.
Также и Федор Поликарпов в своем «Букваре» затейливо полускрывает в акростихе свое авторство. Он предоставляет читателю догадаться об имени автора, совсем не открывая фамилии. Начальные буквы акростиха составляют слова «Богодара труд»; Федор в переводе с греческого значит «дар божий», или «богодар».
У Истомина больше авторского тщеславия. В стихотворное вступление к «Букварю» он вставляет строчку и о себе: «Иеромонах сочини ее Карион». Есть у него и длинные акростихи на сочетание «Царевич Алексей вечно живи», «Иеромонах Карион Истомин».
Другой вид стихотворства, тоже связанный с зрительным впечатлением, - многочисленные вирши на гербы; это такой род творчества, который был потом совершенно утрачен. От первого виршеписца Андрея Рымша дошли до нас такого рода стихи на гербы знатных господ. В таких стихах обычно были и описание герба и его толкование. Сюда же относятся надписи на заглавных листах, гравюрах, которые находятся в начале книг, обычно также писавшиеся в стихах.
Надо сказать, что виршемания доходила до того, что старались рифмовать даже типографские данные и вообще весь заглавный лист. Например у Кариона
Истомина мы находим следующее:
Седьм тысяч двухсот третьего лета,
Сия служба пета,
Июлия Луны
В типографии царствующего города Москвы.
Еще нужно указать на зрительную выразительность, которую культивировали в школьной лирике, в школьных упражнениях. Таковы стихотворения «пифагорические», «рачьи», «грифические» и т. д. Такие вирши можно воспринимать только глазами.
Максимович, например, написал похвалу царевичу Алексею, которую
Петровская эпоха внесла в технику схоластического стихотворства довольно много нового. Постепенно уменьшается роль начертания в виршах и усиливается внимание к звуковой их стороне.
В предыдущие эпохи, можно сказать, установились уже некоторые стандарты относительно рифмовки. Собственно говоря, обычный, самый употребительный стих - стих, завещанный Симеоном Полоцким; его верный ученик, слепо за ним следовавший, - Сильвестр Медведев, а уже позднее Буслаев, которого очень хвалил Тредиаковский. Вот три автора, которых можно считать классиками-виршеписцами. У них мы видим преобладание 13- и 11-сложных размеров. При этом они придерживаются парных рифм - женской рифмы. Мужская и дактилическая считались неприемлемыми. Таков был стандарт до-Петровской эпохи.
В Петровскую эпоху мы наблюдаем желание уйти от этого стандарта, и целый ряд поэтов прибегает к разным формам строфического построения. Из них простейшее - когда каждая 4-я строчка является полустрокой, т. е. имеет вдвое меньше слогов, чем остальные.
Или другой прием: к четырем строкам присоединяются слова, не рифмующиеся ни с чем, если можно так назвать, нечто вроде возгласа, как это встречается в песнях. Очень заметно стремление от многосложных строчек перейти к более коротким, дробя длинные строки, что особенно важно для пения - в кантах и ариях. Появляются внутренние рифмы. Таким образом, если первые и третьи строки имеют внутренние рифмы, то четверостишье обращается в шестистишье, чем значительно облегчается произношение. В связи с этим появляется все больше тонических строк среди силлабических и в течение стиха вносится разнообразие.
Поэзия Петровской эпохи чаще всего имела прикладной характер. В первую очередь это относится к дидактической поэзии, которая преследовала цели образовательно-воспитательные, а также к панегирической лирике, которая была призвана прославлять деяния Петра, пропагандировать их значение. Наоборот, сатирические вирши и любовная лирика обслуживали интересы частного быта.
Дидактическая поэзия оказалась самой нужной и самой актуальной в конце XVII и начале XVIII в. Для целей преобразования России и укрепления ее могущества понадобилась западная наука и, прежде всего, знание языков и наук математических. В целях пропаганды и разъяснения нужных знаний и расцветает дидактическое стихотворство. Его прикладной характер подчеркивается тем, что дидактические вирши входят в состав учебных и образовательных книг, чтобы облегчить запоминание или повысить интерес к изучаемому. Например большинство русских людей тогда еще не подозревало о существовании Америки. В книге Кариона Истомина находим такие вирши:
Америка часть четверта.
Ново земля в знань отперта.
Вольнохищна Америка
Людьми, в нравах, в царствах дика.
Тысящьми лет бысть незнанна,
Морем зело отлиянна.
Веры разны в бальвохвальстве,1
Наги люди там в недбальстве.2
Во всей книге Федора Поликарпова «Букварь треязычный» найдется не более двух-трех удачных образов в виршах составителя книги, но богаты образностью помещенные в той же книге стихи Григория Богослова, приведенные и в греческом подлиннике и в латинском и славянском переводах. Здесь читатель находил такие афоризмы, как «без крыл не летай и птица без крыл не летает», или такое сравнение:
Шуми морстии мужа безумного словеса,
Тяготящие бреги, не тучнят лугов.3
Из исторических сведений, пропагандируемых стихами, по традиции самыми важными считались сведения из библейской истории, например в «Месяцеслове» на 1713 г. к каждому месяцу прилагались стихи, где указывались важнейшие события из библейской истории, происходившие в этом месяце, например:
В марте Израиль прийде в Черное море
И от египетского освобожден был горя.
Традиции церковной литературы были еще очень сильны. Характерный факт: в московской типографии в 1724 г., т. е. в конце царствования Петра, было 14 станков, из них только 2 печатали светские книги, а все остальные церковные. Но дух эпохи сказывался и в этих немногих светских книгах. Важнейшими представителями дидактической поэзии Петровской эпохи являются три составителя ценных для того времени учебных книг: Карион Истомин (1650-1722), Федор Поликарпов (1731) и Леонтий Магницкий (1669-1739).
В 1692 г. выходит стихотворный «Букварь» Кариона Истомина, в 1701 г. «Букварь славянскими, греческими и римскими письмены» Федора Поликарпова, в 1704 г. его же «Словарь треязычный», годом раньше, в 1703 г. знаменитая «Арифметика» Магницкого, также насыщенная виршами.
Кроме стихотворных объяснений гербов и гравюр, помещенных в книге, в стихах объясняется также и план книги. Затем - стихи, объясняющие, что такое деление, сложение и т. д. При сложении больших чисел рекомендуется особенное внимание:
Ибо коль многи слагаешь,
Большу в мозг память влагаешь.
И так после каждого раздела. Эти примитивные еще дидактические стихи явились предшественниками позднейшей дидактической поэзии XVIII и XIX вв. - дидактических поэм Хераскова, Воейкова, Норова и др. и в первую очередь ломоносовского письма-рассуждения «О пользе стекла».
Высокая лирика Петровского времени может быть разделена на два основных вида: духовный и светский. Промежуточный вид - вирши философского содержания, сводившиеся к размышлениям о тщете всего
земного, о смерти, - близок к духовной лирике. Между тем для нас наименьший интерес представляет именно лирика духовная. В основном, она отражала потерпевшее значительные удары в Петровскую эпоху рутинное, церковное мировоззрение.
В этой связи можно указать, как на необычайно плодовитого виршеписца - на Максимовича. У него есть книга, в которой больше 10 000 виршей. Об его стихах неблагоприятно отзывались и Димитрий Ростовский и Кантемир, который сказал, что эти стихи «жестки и ушам досадны».
Вирши на смерть, о тщете всего земного, продолжающие традицию церковного мировоззрения, были очень частым явлением в поэзии того времени; почти все они писались учеными монахами.
Светская высокая лирика находилась также почти всецело в руках духовенства. Авторы ее - в большинстве случаев воспитанники Киево-Могилянской коллегии или Московской славяно-греко-латинской академии. Виршетворчество на польском, церковно-славянском и украинском языках, процветавшее на Украине, перекинулось и в Московскую Русь с переездом в Москву украинских ученых монахов. В связи с этим и язык русских панегирических виршей Петровской эпохи насыщен украинизмами и, в несколько меньшей степени, полонизмами. Наиболее интересными представителями панегирической лирики явились три крупнейших духовных деятеля Петровской эпохи: Феофан Прокопович (1681-1736), Стефан Яворский (1658-1722) и Димитрий Ростовский (1651-1709), все трое выходцы из Украины. Стихотворения являются только незначительною частью оставшегося от них рукописного литературного наследства. Как люди одаренные и начитанные, они умели иногда отходить от шаблонов школьной пиитики того времени и в какой-то степени быть своеобразными. Их произведения трудно смешать, даже когда они берутся за одну и ту же тему. Когда обнаружилась измена Мазепы, им, украинцам, важно было отмежеваться от него. И Стефан Яворский и Феофан Прокопович проклинают в стихах Мазепу, но делают это различно, и тут сказывается несходство их идеологий и их стиля: Стефан Яворский - религиозный фанатик, добившийся у Петра казни придворного поэта царевны Софьи и своего антагониста, проповедника и астролога Сильвестра Медведева, инквизиторски относившийся к раскольникам и к лицам, подозреваемым в протестантизме, обрушивается в своих виршах 1708 г. и на Мазепу, как религиозный фанатик.
В длинном стихотворении в 88 строк он рассматривает измену Мазепы не как государственное преступление, а как страшный грех перед богом, как нарушение крестного целования, как козни неблагодарного и коварного сына против нежно любившей его матери - России. Весь арсенал образов взят из Библии: Мазепа второй Ирод, который убивает чад России, он - Иуда, он - второй Каин. Россия терпит от него обиду, как Давид от неблагодарного сына - Авессалома; Мазепа - «бес», Мазепа - «сатанин сын» и т. д. Только один раз встречается образ не библейского происхождения в жалобе на то, что «божии храмы» стали «вертепы» от «шведского льва и волка Мазепы», и далее «друг твой Лев, ты волк». Это уподобление Карла XII льву возникло с начала войны со Швецией и идет от изображения льва на гербе Швеции. Язык произведения богат украинизмами: ѣ произносится как и , что сказывается на рифмовке.
Ах! тяжку горесть терпит мати бидна.
Утробу мою снедает ехидна!
Кто мне даст слезы, якоже Рахиле?
Восплачу горько в моем смутном диле.
Кончается стихотворение молитвой России к богу с просьбой наказать изменника и угрозами Мазепе:
Известен буди, яко тебя, вора,
Ад ожидает и погибель скора.
Иначе строит обвинения Мазепы Феофан Прокопович в своем стихотворении «Епиникион», где он воспевает Полтавскую победу. Он осуждает Мазепу не с религиозной точки зрения, или, лучше сказать, она у него на втором плане. Он называет Мазепу мерзким извергом, стыдом нашего века, упрекает его за то, что он, забыв любовь отчую, на отца отечества, т. е. на Петра, «мечет меч дерзкий»; этим он преступил «закон естества». Поэт упрекает Мазепу в трусости. Мазепа оказывается двойным изменником: царю и Марсу; он «трепетен во брани».
Библейские образы здесь, как и в соответствующих театральных «действах», заменены античными, мифологическими. По этим стихам нельзя догадаться, что автор их - духовное лицо. В этом отношении, как и во многих других, Феофан Прокопович является противоположностью Стефану Яворскому: он совершенно чужд религиозного фанатизма, свойственного Яворскому. В истории русской виршевой поэзии Стефан Яворский и по содержанию и по форме является шагом назад по сравнению с Симеоном Полоцким или Сильвестром Медведевым. Наоборот, Феофан Прокопович тот интерес к светским темам, который обнаруживался уже в виршах ученых монахов, его предшественников, сделал преобладающим и тем обозначил решительный сдвиг в сторону светской литературы, характерный для Петровской эпохи.
Вот почему среди виршеписцев Петровского времени первое место безусловно следует отвести Феофану Прокоповичу. У него мы находим действительно искренние чувства, у него мы находим необычайную гибкость и разнообразие в смысле жанров. О чем только он ни писал! Писал и похвалы Петру, писал о лихорадке, писал о том, как трудно составлять словари и т. д. и т. д. К разнообразию тематики присоединяется и разнообразие внешней формы. В этом отношении он занимает также безусловно первое место. У него мы видим строфу, состоящую из трех строк на одну рифму в виршах о поражении при Пруте. У него мы встречаем первые силлабические октавы, причем вполне понятно их происхождение: Феофан полтора года жил в Риме, а октава - итальянская форма.
Лучшее его произведение - «Эпиникион», что по-гречески означает «победная песнь». В этой оде дано описание Полтавского боя, первое в русской поэзии, первое в том ряду, который приведет впоследствии к пушкинскому описанию в «Полтаве» (см. у Феофана - те же скрежет, стоны и т. д.).
В высокопатетическом тоне говорит Прокопович о том, как будут вспоминать Петра впоследствии - как будут им гордиться внуки его современников и с уважением относиться к тем людям, которые видели Петра, знали его.
Язык виршей Прокоповича, простой и понятный в шуточных стихах, в высокой лирике бывает местами труден для понимания, главным образом из-за необычайной расстановки слов, которая явилась результатом подражания латинским стихам. Но тогда это несомненно нравилось, как признак высокой культуры. Что касается до обилия украинизмов, то оно присуще большинству представителей громкой лирики и даже лирики любовной того времени.
Гораздо слабее в области стихотворства было влияние немцев. Из многочисленных од, написанных Петру, три оды написаны немцем Паусом
тоническим стихосложением. У Пауса есть и образность и чувство строфы, но язык у него невозможный; он коверкает русские слова, сокращает их, не договаривает и т. д. По-немецки же он, как и пастор Глюк - представитель духовной поэзии, - писал вполне грамотные стихи.
Торжественная лирика особенно культивировалась в Московской славяно-греко-латинской академии. Там щеголяли своей ученостью и сравнительно высоким уровнем стихотворной техники. Особенно показательны в этом отношении две анонимных приветственных песни Петру I по случаю посещения им Москвы в 1721 г., после Нишгадтского мира, и в 1722 г., по возвращении из Персидского похода. Обе были тогда же напечатаны. Первая из них, как это нередко водилось в практике, между прочим - и московской академии, написана на двух языках: латинском и русском, и, как всегда бывало, на латинском лучше, чем на русском.
Так было даже и у наиболее одаренных авторов, как Стефан Яворский, Феофан Прокопович, Димитрий Ростовский. Писать по-латыни или по-польски, где и поэтический язык и стихотворная техника были уже давно выработаны, было им несравненно легче, чем, будучи украинцами, создавать русские стихи. Еще труднее была задача немцев, пастора Глюка и магистра Пауса; без труда сочиняя на своем родном языке, они не только наводняли свои русские стихи германизмами, но и коверкали русские слова. Существенным недостатком торжественной лирики Петровской эпохи является ее язык, пестревший всякого рода варваризмами. Например:
Градом, езерам, народам подбитым,
Островам многим, синусам разлитым.
В этих двух строках два полонизма - езеро и подбитый в смысле «покоренный» и латинское слово синус , т. е. «залив».
В области стихотворной техники петровская торжественная лирика интересна первыми опытами строфики. Парная рифмовка не является более обязательной: появляются тройные созвучия, рифмы перекрестные, рифмы опоясные, строфы в 5, 6, 7 и 8 стихов и т. д.
Еще больше заметно стремление отойти от старых канонов стиха в одах, носивших название «кантов», т. е. предназначавшихся для пения.
Наибольший интерес представляет кант, написанный Димитрием Ростовским, до сих пор не опубликованный. Он носит латинское название «Cantum in victoriam serenissimi Imperatoris», т. е. «Кант на победу светлейшего [или „яснейшего“] императора». Какая победа воспета в канте, не указано, но из текста можно предполагать, что это - взятие Нарвы в 1703 г., так как в нем есть такое место: «крепкие стены Нарвы, аки Трои, падоша от российской державы».
Основная мысль канта - противопоставление шведского короля Петру. Шведский король - это немейский лев, побежденный Геркулесом (Петр - по-гречески
«камень»).
Льва немейска сила изменися,
О камень твердый Петра сокрушися.
Да се дело
Всяк пой смело
Беспрестанно
Всеизбранно
«Днесь виват!»
Шведский король - мрак, Петр - свет; вот вторая пара контрастирующих символов:
Кто может сие от века сказати,
Может ли свету мрак одолевати;
Мрак - швед темный,
Свет - царь денный
Побеждает
Всяк вещает:
«Днесь виват!»
Библейских образов в этом произведении нет, но очень много выражений и понятий, чуждых старой Руси: муси парнасски, рыцарский, триумф, Троя, виват . Короткие строки приближаются к тоническому стиху, правильному двухстопному хорею.
Нужно сказать, что исходным пунктом образов льва и орла служили гербы: российский - орла, и шведский - льва. Внимание к геральдике отразилось и на образах поэзии того времени.
Очень любопытен один кант, где намекается на то, что Карл XII был ранен в ногу во время Полтавского боя - он назван безногим львом, бегущим от орла, т. е. Петра. Карл понял, что нечего надеяться на Мазепу. Язык этого канта очень ярок при всей невыдержанности стиля.
На ряду с возвышенным слогом в нем - черты живой народной речи, в том месте, где Карл начинает бранить Мазепу.
Кант начинается с высокого стиля:
Орле парящи
Шведа страшащи.
На льва безнога
Ты двоеглавный
В мире преславный
Найде трезвого.
А потом читаем:
Мазепа дурак,
С деревни казак
Сюда мя призвав,
Видя же гибель,
Свою погибель,
От меня сбежав.
Кант на смерть Петра интересен как чисто светский кант. Здесь автор грустит не о том, что жизнь человеческая ничтожна, а выражает скорбь о том, как же Россия будет теперь жить без Петра. Вся надежда возлагается на Екатерину. Как и в других кантах, мы наблюдаем здесь приближение к тонизму: короткие строки написаны как бы правильным дактилем. Кант имеет строфическое построение и состоит из двух восьмистиший. Вот первое из них:
В слезах Россия вся погружалась,
По Петре в сиротстве как осталась
Свет помрачись,
Столь сокрушись...
Венец твой увиде при гробе
Только стенать,
Только рыдать...
и т. д.
Новые формы общежития, конец теремной жизни, появление женщин на ассамблеях и т. д., те сдвиги, которые произошли в придворном быту, отразились на любовной лирике, которая начинает приобретать все более и более книжный характер и все более приближается к западной любовной поэзии. До сих пор любовная лирика существовала только в форме народной песни. Если и высокая панегирическая лирика, обслуживавшая общегосударственные интересы, сравнительно редко прибегала к печатному станку, то произведения любовной лирики Петровского времени, обслуживавшие интересы частных лиц, вполне понятно, совсем не существовали в печатном виде и опубликованы были значительно позднее, в конце XIX или в XX в.
Любовные вирши писали не только мужчины, но и женщины. Новизна некоторых образов, заимствованных с Запада, некоторая изысканность и галантность стиля, а подчас и более легкая и разнообразная строфика - всем этим дорожили люди Петровского времени как признаком новой европеизированной культуры, в их глазах более высокой, чем прежняя, создавшая формы народной песни. Эта неофициальная поэзия - любовные вирши - становится скоро более модным жанром, чем поэзия официальная - панегирическая лирика. Она имела несравненно больший круг потребителей. Обращает на себя внимание и совершенно другой состав авторов. В то время как дидактическая поэзия и панегирическая лирика были почти всецело в руках ученых монахов, любовные вирши - творчество мирян (в большинстве случаев анонимное). Вирши или песни, арии, принадлежавшие или только приписываемые определенным авторам, все наперечет. Среди этих авторов любовных виршей один - Савка Карцов - слуга, сочинивший по заказу своего барина любовное послание к его возлюбленной. Другие авторы, сохранившие свои имена, так или иначе принадлежали к придворной среде. Тут следует назвать Петра Андреевича Квашнина, бывшего в конце XVII в. стольником царицы Прасковьи Федоровны; Виллима Монса, выходца из Немецкой слободы, брата любовницы Петра, адъютанта Петра во время Полтавского боя. Впоследствии он был казнен Петром за любовную связь с Екатериной. Из предполагаемых авторов можно указать Столетова, секретаря Монса. Типичный авантюрист и взяточник, он также был казнен после смерти Петра. Наконец, сочинение некоторых песен приписывается дочери Петра, Елизавете, впоследствии ставшей императрицей. По дошедшим до нас образчикам любовных стихов трех авторов - Квашнина, Карцова и Монса - можно проследить эволюцию любовного жанра. От Петра Квашнина дошло до нас несколько песен на русском языке и несколько виршей на украинском. Первые, где он строго придерживается поэтики устной народной песни, местами очень хороши; вторые, являющиеся попыткой писать по-новому и не на родном языке, большею частью неудачны.
В русских песнях, где язык и художественные приемы (параллелизм, отрицательные сравнения, тавтологии, постоянные эпитеты и т. д.) были давно выработаны, Петр Квашнин дает образцы прекрасной русской речи:
Кабы знала, кабы ведала
Нелюбовь друга милого,
Неприятство друга сердечнова,
Ой, не обыкла бы, не тужила бы,
По милом друге не плакала,
Не надрывала б своего ретива сердца.
Здесь нет ни одного слова, которое было бы неуместно в народной песне.
Или, например, такое обращение к «буйным ветрам».
Занесите мою тоску-кручину во темные во леса,
Потопите мою кручину водами глубокими,
Загрузите мою кручину песками желтыми.
Встречаются и оригинальные отрицательные сравнения, не повторяющие образцы народной поэзии, хотя и взятые из жизни природы.
Не легкий зайчик протекает,
Красная девица из терема поглядывает,
Своего мила друга посматривает.
Не зелена трава зеленеется,
Душа-девица усмехается,
Не тихий дождь опускается,
Красна девица слово молвила.
Песни Квашнина богаты и конкретностью описания н эмоциональностью.
Много-то гулено, много-то видено,
Такова же друга не наживано...
Краше был красного золота,
Дороже был чистого жемчуга,
Нрава был послушного,
Слова был утешного,
Очами был, как ясен сокол,
Лицом он был, как белый снег,
Черны кудри шапкою.
По сравнению с песнями Петра Квашнина, дошедшее до нас любовное послание Савки Карцова, датируемое 1698 г., отличается отходом от устной народной поэзии в сторону церковности и книжности. Тема та же, что и в большинстве любовных песен Квашнина - переживания любящего сердца в разлуке, но трактовка и оформление этой темы совсем иные. Как показывают некоторые выражения («лазоревый мой цветочек» и др.), Савка Карцов хорошо был знаком с народной поэзией, но он предпочитал писать стихи по-новому, по-ученому, вставляя славянизмы и украинизмы, стараясь быть галантным («наимилейший мой животочек») и благонравным, ничего не делающим без благословения церкви и родителей. Упоминаются и обещания, данные богу, и просьба не забывать в своих молитвах и т. д. Отказавшись от художественных средств народной поэтики, Савка Карцов очень дорожит, как это было принято в виршах, рифмой, хотя бы и плохой: «полетел - прилетел», «тебе - себе».
Еще один шаг дальше от русской народной поэзии, но с ориентировкой не на церковно-славянскую речь, а на модные образцы западной любовной лирики, сделал русский немец Виллим Монс. Коверкая русскую речь, он вводит в свои стихи такие образы, как «Купидо, вор проклятый», который радуется, что «пробил стрелою сердце», «сердце все пробитая» (у Монса оно женского рода) «рудою [т. е. кровью] запеклось».
Этот образ очень привился κ русской любовной лирике XVIII в., так же как и другой: любовь - пламя, которое нельзя самому потушить. И в том и другом случае влюбленному грозит смерть. Только ответная любовь может залечить раны и предотвратить опасности пожара.
Так же, как стихи Монса, малоценны в поэтическом отношении, но
показательны в историческом и анонимные любовные песни Петровского времени, в том числе многочисленные «арии», вставленные в прозаические повести.
Рядом с народными выражениями «светик мой», «матушка» могли стоять «Купида», «виват», «фортуна»; некоторые из этих выражений хорошо осваивались, например «фортунища злая». Эти нескладные любовные вирши имели большой успех и, значит, отвечали какой-то насущной потребности. Повидимому, нравилось и изображение любви как страсти, ведущей к гибели. Популярна была тема самоубийства от неудачной любви («Пробью на мечи свои бедные перси»). Повидимому, нравилась своей новизной и строфика:
Я не в своей мочи огнь утушить.
Сердцем я болею, да чем пособить?
Что всегда разлучно,
И без тебя скучно
Легче б тя не знати,
Нежель так страдати
Всегда по тебе.
Как характерный для Петровской эпохи факт, надо отметить также усиление в виршевом стихотворчестве сатирической струи, направленной преимущественно против духовенства.
Сатирические вирши всегда были ближе к реальной действительности, чем высокая лирика, проще по языку и обыденнее по образности. Например в одной сатире на духовных пастырей, относящейся к концу XVII в., осмеиваются те, кто проповедуют на словах строгую аскетическую жизнь, но только для других, а сами так жить не считают нужным.
Самим же таковая содевати,
Аки сапоги с гвоздями обувати.
К Петровскому же времени относится сатира на архиепископа Феодоса, который изображается лихоимцем.
На собранные вещи выписал из-за моря, купил сервиз,
За который в России немного и сам не повис...
Характерно, что некоторые популярные сатиры, существовавшие дотоле в прозаической форме, в Петровскую эпоху облекаются стихами, как, например, знаменитая сатира об Ерше Ершовиче, осмеивавшая судопроизводство.
Панегирическая лирика отражала события с официальной точки зрения; историческая песня с точки зрения народных масс; любовная лирика культивировала галантность обхождения, но изображения человека Петровской эпохи мы нигде в этих жанрах не видим. Этот пробел до некоторой степени восполняют бытовые повести в стихах. Как и сатирические вирши, они отличаются бытовым натурализмом и отходом от церковной морали. В традиционную форму азбуковников вливается новое содержание. Разрабатывается тема борьбы за личное счастье или благополучие. Изображаемые характеры и их судьба подчеркивают значение, которое начинают приобретать в данную эпоху личная инициатива, ум и образование.
Приблизительно 1710-1720 годами датируется замечательная автобиографическая повесть подьячего Семена Петровича Левицкого, интересная и по форме и особенно по содержанию. Повесть написана строфами по пяти стихов в каждой, причем четыре неравносложных стиха с
традиционными в виршевой поэзии парными женскими рифмами, а пятый стих непременно трехсложный, ни с чем не рифмующий. Строфы расположены по порядку азбуки, т. е. первое слово каждой строфы непременно начинается с соответствующей буквы. Кроме того, в начале есть подробное стихотворное же заглавие в 7 строк, а в конце заключение или «совещание» в 12 строк.
В языке много славянских слов (аще, зело и т. д.), неологизмов (вертопрах ) и слов западного происхождения (фортуна, банкет, элексир, ренское ). По содержанию это своего рода «Повесть о горе-злочастии», но совсем без благочестия или религиозной морали. Как и в знаменитом произведении XVII в., сын не захотел послушаться наказов родительских, захотел жить по-своему и за это пострадал. Но на этом сходство с «Повестью о горе-злочастии» и кончается. Причиной несчастий Семена Левицкого являются не отход от заветов старины, не непослушание старшим, а недостаток природного ума, - эта мысль является лейт-мотивом всей повести. Отец, «пастырь словесных овец», т. е. поп, готовил сына в приказные и, «присмотря» его глупость, нередко «плетью наказывал», а пуще всего заклинал его не знаться с «вертопрахами», а сын как раз подружился с «вертопрахами» и, получив по смерти отца немалое наследство, все его прокутил. Далее рассказывается, как герой повести пробовал «славным быть в приказном деле», как переходил от подьячего к подьячему, как давал обеды нужным людям, как сидел в приказе на высоком месте «третьим товарищем» и как, неудовлетворенный этим, стал размышлять о перемене профессии.
Царедворцем мне быти, чаю, не гожуся.
А в церковниках жить - от людей стыжуся.
Затесаться в посад - торговать не умею,
Подрядчиком быть, - отнюдь того не разумею
Чорт дал мне и к ремеслу всякому леность
А дьявол напустил в глупости моей смелость,
И оттого, в какой чин ни мышлю, добра не чаю,
Разве как начал жить и вовсе кончаю
До смерти.
Ни одного мгновенья не было у героя мысли о спасении в монастыре, как в «Повести о горе-злочастии». Герой повести обсуждает вопрос о возможности поездки за границу и об обучении во вновь заведенных школах, где учат «семи свободным наукам и партесу». То и другое отвергается. За границу ехать, как оставить жену одну? Что о ней будут говорить? (Героя мало интересует, как жена будет себя вести, а только, что про нее говорить будут). Учиться же во вновь заведенных школах хорошо бы для карьеры, да нет склонности к наукам. Самолюбие и тщеславие руководят его поступками. На этой почве он поссорился с тестем, подрался с ним, «проломил голову» ему и за это был взят в приказ для наказания. Но, несмотря на все злоключения, герой не теряет самообладания: «лучше бы мне, - думает он, - на свете не жити, нежели за глупость в поругании быти». Кончается повесть тем, что герой после смерти одного из родственников решается оттягать от других наследников богатое наследство и начать жить снова в полное свое удовольствие.
Еще более любопытна по своему бытовому материалу другая повесть в стихах, написанная также в форме азбуковника, где рассказ ведется от лица женщины. Произведение это не датировано, и возможно, что написано оно не при Петре, а при его преемниках, но тем не менее оно в высшей степени характерно для нравов начала века. Композиция этого произведения не так стройно выдержана, как в исповеди подьячего: отдельные главы или главки, обозначаемые буквами алфавита, очень неравномерны по числу строк. Но язык лучше, чем в автобиографии подьячего: встречаются импровизированные пословицы, например «милому сметанка, а немилому творог» и т. д. Героиня повести - натура активная. Дочь зажиточных родителей, воспитанная в домостроевской семье, она не только не хочет жить по домостроевским идеалам, по родительской указке, но даже вступает в упорную борьбу с отцом-самодуром. Она решила сама устроить свое счастье, она отдалась тому, кто ей полюбился, но не был по вкусу ее родителю. Между ее отцом и милым явная вражда. В этой борьбе дочь всецело против отца и даже «смерти ему желала». Она тайно от отца выучилась читать и переписывается с милым. Отец, когда узнал это, прежде всего избил мать за то, что не досмотрела, потом дочь. Отец заставляет ее выйти замуж за другого, за немилого. Подробно описывается девичник и свадьба. В первую брачную ночь она перехитрила мужа, скрыв, что она не девушка. В этом месте повесть сбивается на фабльо. И после свадьбы героине удается продолжать свои встречи с милым. Все это испортила «псовка-соседка». Ее одаряли подарками за молчание, а она нашла для себя выгоднее выдать тайну влюбленных. Героиню разлучили с милым. В заключительной фразе традиционное пояснение, что несчастье это является наказанием за грехи. Но концовка эта никак органически не связана с остальным текстом повести, чуждым церковной морали, и кажется насильственно пристегнутой.
В области поэзии, - если не считать устного народного творчества, о котором речь будет итти особо, - Петровской эпохой были сделаны только первые робкие шаги. Подлинной художественной высоты порожденные петровской реформой идеи достигли впоследствии в творчестве Кантемира и особенно Ломоносова, а не в наивных и тяжеловесных виршах непосредственных современников Петра. Но как бы ни были наивны первые попытки создания новой поэзии с точки зрения позднейших достижений, все же в целом они имели положительное значение, ибо по-своему отражали основной факт культурной жизни эпохи - пробуждение личности к действию, к борьбе со старозаветным церковно-феодальным укладом мысли и морали. В этом смысле стихотворство Петровской эпохи было этапом, прокладывавшим дорогу дальнейшим путям русской поэзии.
Митрополит Стефан Яворский (1658-1722 гг.)
Последним крупным представителем юго-западной схоластической традиции в великороссийской проповеди был Стефан Яворский, в проповеднических произведениях которого нашли отражение все основные требования схоластической школы к форме, построению и развитию проповедей.
Митрополит Стефан, в миру Симеон, родился в 1656 г. в Галиции у православных родителей, небогатых дворян. Позднее его семья переселилась в окрестности Нежина, а он сам поступил в Киево-Могилянскую коллегию. Еще до окончания полного курса Яворский для углубления образования отправился за границу, где прослушал философию и богословие в польских католических школ. Для этого он вынужден был выполнить непременное требование возглавлявших эти школы иезуитов - принять (хотя бы и внешне) католичество в форме униатства. По возвращении из Польши он отрекся от униатства и принял в Киево-Печерской обители постриг с именем Стефана. Одновременно он был назначен на должность "официального проповедника" в лавре и других монастырях и церквах, которую исполнял "с великою пользою и услаждением слышащих". Обладая блестящим талантом и глубоким богословским образованием, Стефан вскоре составил себе репутацию замечательной проповедника. В 1700 г., уже в сане игумена, он был отправлен по церковно-административным делам в Москву, где его заметил Петр Первый, счел полезным в делах преобразования России и в том же году определил митрополитом - Рязанским и Муромским.
После смерти патриарха Адриана, Яворский был назначен местоблюстителем патриаршего престола, а в 1721 г. президентом Священного Синода, какую должность и занимал до кончины, наступившей в 1722 г. Однако лишь первые одиннадцать лет своего первоиерархического служения, в которые он пользовался благосклонностью Петра I, митр. Стефан имел реальную свободу в проповеднической и административной деятельности, а после 1711 г., когда различия в понимании целей и задач преобразования жизни русского общества между императором и митр. Стефаном выявились в полной мере, последний оставался во главе церковной иерархии лишь номинально, перенося непрестанно невзгоды, обвинения и оскорбления от своих врагов, в числе которых был и Феофан Прокопович.
Историческая заслуга Стефана Яворского в петровскую эпоху состояла в том, что он в своем духовном строе совмещал начала, сродные древнерусской и новоевропейской цивилизации. Полученное на Западе образование и богословская ученость избавили его от обскурантистского неприятия всего нового и иностранного, столь свойственного старообрядцам, а уважение к преданию и авторитету Церкви дало понимание необходимости сохранения в изменившихся условиях традиций русской православной духовности, чего так не хватало петровским реформаторам. Проповедь митр. Стефана была актуальна, согласовывалась с жизнью общества той эпохи, отвечала на запросы современной среды и освещала светом веры текущие события.
Все слова и беседы Стефана Яворского (числом более 250) можно разделить на:
догматические;
нравственные;
слова на разные случаи: похвальные, торжественные, благодарственные.
В догматически словах митр. Стефан преимущественно избирал такие темы (о молитве и ходатайстве за нас святых, о Священном предании, о вере и добрых делах, о таинствах), которые были направлены против лютеранских идей, распространявшихся в русском общество вследствие наплыва иностранцев. При этом важно, что направляя свою речь против учения Лютера и Кальвина и зараженных их вольномыслием своих русских современников, проповедник стремится на только разоблачить ложь своих противников, но и раскрыть положительное учение Православной Церкви о догматах, ими оспариваемых.
Еще одну тяжелую болезнь занесла с собой в русское общество западноевропейская цивилизация: во многих явился индифферентизм к религиозным вопросам и обязанностям благочестия православного христианства. Против этого порока, особенно распространенного между людьми высшего круга, вооружался Стефан Яворский, проповедуя о святой Православной вере, как источнике небесной мудрости, без которой земная мудрость не приносит человеку никакой пользы и есть не что иное, как юродство.
Яворский обличал также испорченность нравов тогдашнего общества которая, по его же выражению, дошла до того, что он опасается за прочность России и опасается, как бы она не упала подобно столбу Силоамскому. Яворский с большой силой восстает против незаконных разводов, сопровождавшихся очень часто насилием со стороны мужей (в том примером послужил сам Петр I), против роскоши, пиров и мотовства, порожденных самим духом петровского общества, против обманов и неправды в судах. С особенной энергией и особенно часто митр. Стефан обличает своих современник за их холодность и невнимание к богослужению.
Торжественные слова Яворского произносились в связи с самыми различными обстоятельствами: объявлением войны, победой, открытием государственной измены и т. д. В этих проповедях митр. Стефан говорил о привлекательных сторонах личности Петра I, о успехах его внешней политики, о благотворности внутренних реформ, обличая только современников, которые не пеняв значения реформ Петра, или порицали их, или злоупотребляли ими.
Проповеди Яворского составлены в форме слов; каждая из них состоит из следующих частей: темы, вступления, исследования, патетической части, заключения. Часто проповеди основываются не на содержании избранного предмета, а на каком-нибудь аллегорическом разъяснении одного слова из текста, или на каком-нибудь искусственно поставленном вопросе. Так, приводя слова Спасителя: "Поминайте жену Лотову", - проповедник вопрошает: "Как же ю, Спасителю мой, поминати? Панихиду ли за ню пети? Или в ектеньях ее поминати? Не ведаем, как ея имя".
В своих словах Яворский часто использует как источник Св. Писание, но делает это вполне схоластически, так что получается некая мозаическая картина, которая соответствует тому, что хочет сказать проповедник, но никак не содержанию Библейского текста. Желая, например, похвалить приморское местоположение новооснованного Петербурга, Яворский приводит множество текстов Св. Писания, которые подтверждают будто бы его мысль о превосходстве низменных мест, об особой близости к Богу водной стихии. При этом тексты подобраны так произвольно, что проповедник без труда тем же способом мог хвалить огонь, воздух, горы и т.п.
Стефан Яворский (в миру Семен Иванович), митрополит рязанский и муромский, местоблюститель патриаршего престола и первый президент Свят. Синода - один из самых замечательных иерархов русской церкви при Петре Великом. С., родился в местечке Яворе в 1658 г. Ученые до сих пор не пришли к единомыслию относительно вопроса, где находилось это место родины С. - и Галиции или на Волыни. Но во всяком случае родители С., бывшие мелкими шляхтичами, жили в той правобережной Украйне, которая по андрусовскому мирному договору 1667 г. осталась за Польшей. Люди по-видимому небогатые, они, однако, после этого события, чтобы окончательно избавиться от гонений на свою православную веру со стороны поляков, решили переселиться на левый берег Днепра, в пределы Московского государства, - именно в сельцо Красиловку, недалеко от города Нежина. Это сельцо для семьи Яворских сделалось второй родиной: здесь умерли родители С., и здесь же, в Нежине, впоследствии служили его братья. Образование Яворского началось, конечно, еще до переселения в Красиловку. Теперь же он, по словам одного своего биографа, "юн сый, горя желанием учения", отправился в Киев, где поступил в знаменитую Киево-Могилянскую коллегию, - средоточие тогдашней южнорусской образованности. Когда он прибыл и Киев, мы с точностью определить не можем, но во всяком случае это было не раньше 1673 г., а, вероятво, гораздо позже. Пробыл он в Киевской академии до 1684 г. Здесь молодой Яворский обратил на себя внимание известного киевского проповедника, иеромонаха Варлаама Ясинского, впоследствии бывшего архимандритом киево-печерским, а затем митрополитом киевским. Сам Варлаам был учеником заграничных иезуитских коллегий, и вот он, уверившись в несомненных дарованиях Яворского, решил повести его тем же путем, каким шел сам, и в 1684 г. отправил его за границу для довершения духовного образования. Для того, чтобы беспрепятственно слушать философию в иезуитских коллегиях во Львове и Люблине и богословие в Вильне и Познани, Яворский должен был, по крайней мере наружно, сделаться униатом и даже принять новое имя, - Станислава-Симона. Впоследствии враги митрополита постоянно ставили ему в вину это вынужденное вероотступничество, но вряд ли справедливо: поступок Яворского был самым обыкновенным и то время; так поступали все сколько-нибудь известные южнорусские ученые, например: Иннокентий Гизель и Епифаний Славонецкий. Учение в католических школах не мешало им быть затем самыми ревностными борцами за православную веру. Как бы то ни было, но Яворский в польских училищах "прошел вся учения грамматическая, стихотворская, риторская, философская и богословская" и получил диплом, в котором назывался "artium liberalium et philosophiae magister, consummatus theologus". Образование Яворского, полученное им в этих польских училищах, дало ему, во-первых, все те духовные средства, которые были необходимы ему при его будущем высоком служении православной церкви, во-вторых же, определило и особенности его умственного развития и сильно повлияло на склад его убеждений, в основе которых всегда лежали идеи авторитета и традиции. Вероятно, отсюда же будущий митрополит вынес и особенное свое нерасположение к протестантизму. В 1689 г. Яворский вернулся в Киев; здесь он, конечно, немедленно отрекся от католицизма, и "церковь о чадех своих пекущися и Отцу небесному сообразная, примером блудного сына, Стефана приняла и властию ключей Христовых простила и разрешила", говорит одна последующая апология С. В киевской академии Яворский был подвергнут испытанию и между прочим обнаружил при этом испытании такие способности слагать стихи латинские, польские и русские, что киевские ученые почтили его высоким титулом poeta laureatus. В это время Яворский находится опять под покровительством Варлаама Ясинского, который все убеждал его принять монашество. Наконец, в 1689 г. Яворский принял иноческий чин, будучи пострижен самим Варлаамом и получив при пострижении имя Стефана. В следующем же году покровитель и благодетель С. Варлаам был избран в митрополиты киевские, и С., проходивший до этого времени монастырское послушание в Киево-Печерской лавре, был назначен в академии преподавателем риторики и витийства. В 1691 г. он был уже префектом академии и профессором философии, а через несколько лет и профессором богословия. Деятельность С. в качестве академического преподавателя была весьма благотворна: вместе с ним в академии, можно сказать, утверждалось последнее слово латинской богословской и философской мысли. Его биограф в приложении к "Камню Веры" так говорит о его деятельности в академии: "Стефану восприемшу учительство уже не бе нужда малороссийским юношам искати учения в чужих государствах, вся бо требуемая обретахуся в Киеве, удобе снискаемая от таковаго учителя". В академии С. воспитывал целый ряд будущих учителей, проповедников и администраторов. Между его питомцами был, вероятно, и его будущий соперник, знаменитый впоследствии Феофан Прокопович. Когда С. был уже митрополитом, враги обвиняли его в том, что при нем Киевская академия сделалась рассадником "папежского учения". Но это бездоказательное обвинение легко опровергается тем, что до нас дошли богословские лекции С., в которых последний тщательно опровергает заблуждения римско-католической церкви. Впрочем, был один пункт в его воззрениях, в котором он был в противоречии с церковью московской. Как раз в Москве в это время велись ожесточенные споры о времени пресуществления св. даров. Сильвестр Медведев защищал мысль о том, что пресуществление св. даров совершается одними словами Спасителя без призывания св. Духа. Это учение было, несомненно, заимствовано им от латинской церкви. С. тоже принял участие в споре, и хотя держался среднего примирительного пути, но все же это последнее обстоятельство сильно повредило ему в глазах многих, долгое время считавших его "латынником".
Вместе с деятельностью ученой и преподавательской С. совмещал в это время и деятельность проповедника. Между прочим, он произнес проповедь в Батурине при бракосочетании пана Иоанна Обедовского, нежинского полковника, племянника Мазепы; проповедь эта проникнута глубоким уважением к гетману. Вместе с тем С. постоянно помогает своему митрополиту в епархиальном управлении. В 1697 г. он был назначен игуменом Свято-Никольского Пустынного монастыря близ Киева на место Иоасафа Кроковского. На это назначение С. мог смотреть как на переходную ступень к епископству. В это время он не только "помоществовавше кафедре митрополичьей в духовных и епаршеских делах", но по делам митрополита бывал даже и в Москве. В январе 1700 г. митрополит Варлаам отправил его вместе с игуменом Захарией Карпиловичем в Москву с письмом, в котором просил патриарха Адриана учредить переяславскую кафедру и назначить на нее одного из присланных игуменов. Однако С. в Москве ожидало новое, совершенно для него неожиданное высокое назначение. Патриарх Адриан, уже больной, принял присланных игуменов и обещал поговорить о переяславской кафедре с государем, а пока игумены жили на малороссийском подворье. Но тут случилось обстоятельство, которое определило дальнейшую судьбу С. В Москве скончался знаменитый военачальник боярин Алексей Семенович Шеин. С. при погребении говорил надгробное слово, а в необыкновенном уменье проповедовать ему не отказывали и его злейшие враги. И вот проповедь малорусского игумена произвела сильнейшее впечатление на слушателей, а среди них был сам государь. Петр сразу заметил талантливого человека и говорил патриарху, что игумена С. нужно посвятить в архиерей на какую-нибудь из великорусских епархий, "где прилично, не в дальнем расстоянии от Москвы". С. же самому было приказано оставаться в Москве, "доколе же обыщется где место архиерейское праздное и приличное". Таковое открылось в скором времени в Рязани. A между тем Москва С. встретила не особенно приветливо: ему готовили архиерейское место, а в то же время ничего не давали на прожитие, так что он должен был в феврале просить начальника посольского приказа адмирала Головина о назначении ему содержания и жалования со старцами. 15 марта ему был объявлен приказ патриарха, чтобы он на другой день готовился к наречению, но C. на другой день не явился, а уехал в Донской монастырь, а 1 апреля подал опять Ф. А. Головину небольшой трактатец под названием: "Вины, для которых ушел я от посвящения"... Но ничто не помогло; настойчивость Петра, конечно, превозмогла, и 7 апреля 1700 г. С. был поставлен в рязанские митрополиты. В июле того же года он был уже в Рязани и деятельно занялся делами своей епархии; однако заниматься только одной своей епархией ему суждено было недолго. 15 октября того же года скончался патриарх Адриан. Прибыльщик Курбатов, отписывая государю о кончине патриарха, советовал ему с избранием нового патриарха повременить, а пока для заведования делами патриаршего управления выбрать кого-нибудь из архиереев в местоблюстители. На эту должность Курбатов рекомендовал Афанасия, архиепископа холмогорского. Предложение Курбатова шло, вероятно, навстречу мыслям самого Петра, и государь патриарха не назначил, согласившись на должность местоблюстителя, но на нее поставил не Афанасия, а митрополита рязанского. Таким образом, 42-летний С. в самый короткий промежуток времени сделался из простых игуменов высшим лицом в русской церкви. Сам С. вовсе не искал этой чести; он тосковал по своей Малороссии и опасался больших неприятностей на новом высоком поприще. Многие из москвичей, вероятно, были недовольны назначением С., этого "черкаса в обливанца", но, конечно, не могли открыто выражать своего неудовольствия. Был этим очень недоволен и иерусалимский патриарх Досифей и в 1702 г. писал Петру В. письмо, в котором предостерегал государя вообще против духовных лиц из малороссов и не советовал ни в каком случае делать С. патриархом. Петр не обратил на письмо никакого внимания, но сам С. отправил к патриарху оправдательное письмо. Досифей, однако, оправданиями его не удовлетворился и 15 ноября 1703 г. отправил митрополиту обширное письмо, в котором никак не хотел считать С. вполне православным. Только преемник Досифея, патр. Хрисанф, окончательно примирился с местоблюстителем.
Между тем новому местоблюстителю предстояло много самой разнообразной работы на своем поприще. Благодаря нововведениям Петра, обострился еще раньше возникший в русской церковной жизни вопрос раскольнический. С этим прежде всего и пришлось столкнуться С. В 1700 г. еще возникло дело книгописца Григория Талицкого, который распространял в народе тетрадки, в которых Москва называлась Вавилоном, а Петр В. антихристом. С. должен был увещевать этого фанатика; Талицкий, конечно, остался при своих мнениях, и киевский ученый не мог убедить московского начетчика. Однако для С. эти прения не пропали даром, и в 1703 г. он издал книжку, направленную против заблуждений Талицкого, - под названием "Знамения пришествия антихристова и кончины века". В этом сочинении С. заимствовал многое от испанского богослова Мальвенды. В своих проповедях митрополит также довольно часто обращался с увещанием к раскольникам. Епархиальные архиереи по делам раскола также сносились с ним. В последний период жизни С. известно еще его участие в одном деле против раскола, которое, однако, не принесло никакой пользы православной церкви в 1718 г. по его благословению было напечатано "Соборное деяние на еретика армянина на мниха Мартина". Соборное деяние это несомненно подложно, и его подложность была еще доказана старообрядцами в их "Поморских ответах". Трудно сказать, принимал ли деятельное участие в этом деле сам С., - по всей вероятности, он из своей слабохарактерности согласился прикрыть своим именем тот литературный подлог, который был совершен известным Питиримом по приказу Петра... Кроме дел раскола на местоблюстителя была возложена обязанность избирать кандидатов для пустующих епархий и посвящать их во епископы. Из его ставленников особенно известны: священник Димитрий Туптало (митрополит ростовский), Филофей Лещинский (митрополит сибирский), Иоасаф Кроковский (митрополит киевский) и митрополит ростовский Досифей, впоследствии казненный по делу царевича Алексея. Кроме общего надзора за делами русской церкви С. приходилось управлять еще двумя большими епархиями, патриаршей и рязанской. Вследствие множества дел и частого отсутствия из Рязани он не мог, конечно, посвящать своей кафедре столько времени, сколько хотел. По крайней мере в одном из своих предсмертных писем он скорбит о том, что был далек от своей паствы.
Кроме дел церковно-административных на обязанности С. лежали еще дела духовно-учебные, так как государь назначил его и протектором Московской академии. Эту академию он устроил по образцу Киевской, "заведя в ней учения латинская", назначая на должность ректоров и префектов своих киевских учеников. В течение 16 лет (1706-1722) во главе Московской академии находился архимандрит Феофилакт Лопатинский, искренний и преданный его почитатель. С. принимает участие во многих ученых предприятиях своего времени: он между прочим помогает известному Федору Поликарпову в издании последним "Лексикона треязычного" (1704 г.). Он пользуется высоким ученым авторитетом в русском обществе. Такой замечательный русский человек, как Посошков, подает ему свои "писания" и "доношения" относительно устройства наших духовных школ. С. с этой стороны знают и за границей: по крайней мере именно к нему обращался в 1712 г. с письмом знаменитый германский философ Лейбниц, говоря о необходимости для распространения христианства перевести на языки живущих в России инородцев 10 заповедей, Отче наш и Символ веры.
Кроме всех этих многоразличных дел и забот С. не забывал и своего проповедничества: он произносит свои "изрядныя предики" по случаю всякого более или менее важного политического или церковного события: говорит проповеди по поводу побед царского оружия, - взятии Шлиссельбурга, Нарвы, Риги, торжественно славит Петра после полтавской победы, доказывает необходимость заведения флота на Балтийском море и т. п. В 1708 г. в Успенском соборе вместе с другими иерархами он предает торжественной анафеме Мазепу и произносит приличествующую этому случаю проповедь. Его проповеди проникнуты вполне схоластическим духом, они наполнены патетическими местами, аллегориями, анекдотами и т. п. Справедливость, однако, требует добавить к этому, что иногда ревность и любовь к церкви невольно заставляют С. сбросить в своих проповедях тяжелую схоластическую форму, и тогда речь его приобретает действительно искренний и задушевный тон.
Каковы же, однако, в это время были отношения С. к Петру? В начале его местоблюстительства они ничем не нарушались: Петр весьма благоволил к С., назначил ему довольно хорошее жалованье, в 1711 г. подарил ему на Пресне двор с садом и прудом и, по словам самого С., часто жаловал ему за победительные проповеди "овогда тысячу золотых, овогда меньше". Во время своих походов царь постоянно переписывается с местоблюстителем, сообщая ему о своих трудах и победах. Но С. далеко не был доволен своим по внешности блестящим положением: уже в письме к его лучшему другу, св. Димитрию Ростовскому, в 1707 г. звучат скорбные нотки; он жалуется на "бесчисленные суеты" и "неудобостерпимое бремя", называя Москву Вавилоном. У Петра он просится на киевскую кафедру, но тот его не отпускает. В 1706 г. в Москве пронесся даже слух, что митрополит собирается принять схиму, так что Мусин-Пушкин было даже запретил всем архимандритам и священникам под страхом наказания постригать его в схиму. Волей-неволею С. по настоянию государя пришлось вернуться в Москву к своему скучному местоблюстительству. Главной причиной недовольства С. было то, что он видел себя обладателем только громкого титула "Екзарха святейшего патриаршего престола блюстителя и администратора". "При тогдашних обстоятельствах церковной и общественной жизни", справедливо говорить г. Рункевич, "роль блюстителя патриаршего трона представлялась двусмысленною, жалкою декорацией, за спиной которой светские власти делали, что хотели"... Есть известие, что С. будто бы лично делал намеки государю о патриаршестве, а государь, говорят, на это ответил: "Мне этого места не ломать, а Яворскому на нем не сидеть". Но вряд ли С. не мог видеть, что и титул патриарха при тогдашних отношениях светского правительства к церкви никакой власти ему не прибавит. Он постепенно разочаровывался в Петре В.; теперь он видел в государе человека не только не радящего о церкви, но даже, пожалуй, враждебного ей, друга ненавистных С. протестантов. И вот местоблюститель постепенно, очень осторожно переходит из "Петра Великого дел славных проповедника" в его обличителя. Та манера проповедничества, которой он держался, давала ему возможность делать весьма прозрачные намеки на современных лиц и современные события. Впрочем, в начале эти обличительные намеки остаются только на бумаге. Еще в 1708 г. на день св. Иоанна Златоуста (13 ноября) С. приготовил проповедь, в которой обличал отобрание церковных имуществ и говорил о царе Валтасаре, пировавшем из сосудов церковных; в ней даже есть намек на петровские ассамблеи. Однако на этой проповеди есть отметка: non dictum, - следовательно, она не была произнесена. Не была произнесена и проповедь, в которой говорилось о "муже прелюбодейном", посхимившем свою жену, Но все более и более накоплявшееся у митрополита раздражение против Петра прорвалось наружу окончательно в 1712 г., когда он 17 марта в день именин царевича Алексея произнес свою знаменитую проповедь о фискалах, которые, действительно, творила большие злоупотребления. День именин царевича был выбран С. не даром: все более и более отдаляясь от Петра, он должен был, как и многие другие современники, смотреть с надеждой и упованием на царевича, который, как всем было известно, вовсе не похож на отца. Сенаторы, присутствовавшие при этой проповеди, нашли ее возмутительной, и сенат потребовал С. к ответу. Тогда тот 21 марта того же года обратился к Петру с письмом, в котором вновь убедительно просил отпустить его в Донской монастырь на покой. Однако эта выходка митрополита против Государя прошла ему безнаказанно; говорят, царь только на рукописи проповеди в том месте, где была написана особенно резкая выходка против "мужа законопреступного", сделал пометку: "Первее одному, потом же со свидетелями", давая этим С. понять, что тот должен был сначала обличить его о глазу на глаз, но митрополит на такой смелый поступок не был способен, - в присутствии царя он робел и терялся. В последующей переписке своей с Петром С. редко был искренним; подписывался на своих письмах он всегда весьма характерно: "Вашего царского пресветлого Величества верный подданный, недостойный богомолец, раб и подножие Стефан, пастушок рязанский".
A между тем, в это самое время этот "недостойный богомолец" осмелился поднять такое дело, которое царю было весьма неприятно, - начал знаменитый розыск против лекаря Дмитрия Тверетинова. В начале XVIII в. немецкая слобода особенно разрослась, разбогатела и сделалась центром протестантской пропаганды; немцы старались доказать, что различия между православной церковью и лютеранством facillime legitimeque uniuntur (легко и законно согласуются). Вместе с тем они в Москве искали себе адептов среди православных. Таким адептом протестантизма и явился вольнодумец Тверетинов, который уже много лет распространял в Москве свои воззрения. Дело было первоначально начато против школьника Ивашки Максимова, который оговорил Тверетинова и некоторых его последователей. Однако лекарь и один из его сторонников, фискал Михайла Косой, бежали в Петербург и там нашли себе покровителей в лице некоторых сенаторов, врагов С., и архимандрита Александро-Невской лавры Феодосия. Здесь еретики были признаны православными, и 14 июня 1714 г. сенат указал С. принять еретиков и объявить торжественно о их правоверии. На этот раз он, однако, решил не уступать и 28 октября обратился к государю с обширным письмом, в котором, излагая обстоятельства дела, указывал на полную невозможность исполнить распоряжение сената. Царю, видимо, весьма не нравилось направление, данное делу Тверетинова митрополитом, и 14 декабря последовал указ о вытребовании всего дела в Петербург и о явке туда же самого С. со всеми свидетелями. С. на это ответил просьбой к царю отпустить его в Нежин на освящение церкви. Петр отказал, и С. пришлось отправиться в Петербург. Здесь в марте 1715 г. дело Тверетинова вновь рассматривалось и приняло совершенно неблагоприятный оборот для местоблюстителя: из обвинителя он превратился как бы в обвиняемого. Дошло даже до того, что 14 мая, когда С. для слушания дела пришел в судебную избу, "сенаторы, как он сам пишет царю, с великим студом и жалем изгнали его вон". Недовольный и обиженный, С. усиленно просит отпустить его в Москву. Наконец 14-го августа желанное разрешение от царя было получено; С., однако, хочется исполнить свое давнишнее желание - посетить свой родной Нежин, но Петр все его туда не отпускает. Тогда он 23 января 1716 г. сочиняет трогательное письмо на имя двухмесячного царевича Петра Петровича, прося его "походатайствовать о нем перед своим родителем". Должно быть, эта последняя просьба тронула суровое сердце Петра, потому что 25 июля мы видим митрополита торжественно освещающим свой храм в родном Нежине. Между тем не успели еще заглохнуть в душе С. огорчения по делу Тверетинова, как над головой его стряслась новая, еще более крупная неприятность: 18 мая 1718 г. государь приказывал С. как можно скорее явиться в Петербург, чтобы принять участие в верховном суде по делу царевича Алексея. Раньше было отмечено, что С. более или менее сочувствовал царевичу; однако, по нашему мнению, С. M. Соловьев вполне прав, утверждая, что со своей скрытностью и необщительностью С. не мог быть особенно близок с царевичем, но несомненно и то, что окружающие постоянно твердили царевичу: "Рязанский к тебе добр, твоей стороны и весь он твой". Во всяком случае, с тяжелым чувством должен был местоблюститель присутствовать на суде над тем человеком, на которого он возлагал многие свои надежды. Конечно, не без его влияния духовенство, спрошенное Петром о праве его казнить сына, высказалось определенно за помилование. С. же имел мужество восстать, хотя и безуспешно, против расстрижения епископа Досифея, замешанного в дело царевича и казненного. Митрополит сам отпевал и хоронил несчастного царевича. В то самое время, когда в Петербурге решалось дело царевича, самое видное место среди иерархов русской церкви занял молодой Феофан Прокопович, против назначения которого в архиереи С. восставал всеми силами. Единомышленники и почитатели С. - ректор московской академии Феофилакт Лопатинский и преподаватель той же академии Гедеон Вишневский, - подали доношение, в котором обвиняли Феофана, тогда еще только кандидата на псковскую кафедру, в ереси. К этому обвинению присоединился и С., соглашавшийся допустить Прокоповича к епископству только после отречения последнего от его протестантских заблуждений. Но и тут его ждала та же неудача, что и в деле Тверетинова: государь был сильно разгневан на него, и ему пришлось униженно просить прощения. Петр поручил сенатору Мусину-Пушкину "свести рязанского с Феофаном". Свидание состоялось, и между противниками произошло видимое примирение, хотя Феофан и своих проповедях и даже в "Духовном регламенте" впоследствии неоднократно позволял себе весьма непристойные выходки против престарелого митрополита.
Во все это время С. жил в неприятном ему Петербурге и должен был поневоле принимать участие во всех торжественных молебствиях; так, например, 29 июня 1719 г. он говорит проповедь в церкви св. Троицы, 21 июля того же года государыня приказывала ему молиться в церквах об успешном окончании шведской кампании. Вообще везде, где необходимо было, так сказать, внешнее церковное представительство, С. первенствует, но никакого влияния на дела он уже не оказывает, - тут государь постоянно предпочитает ему Феофана Прокоповича и Феодосия Яновского. Для нас несколько странно то обстоятельство, что именно в это тяжелое для С. время он уже не просится у Петра на покой. Γ. Рункевич объясняет это тем, что, видя свое отдаление от царя, митрополит стал дорожить тем местом, от которого раньше отказывался, действуя в этом случае по обыкновенной человеческой психологии: не хранить того, чем обладаем, и стремиться к тому, чего лишаемся. Но, по нашему мнению, возможно и другое объяснение: С. теперь видел, что в случае ухода, он будет заменен или Феофаном, или Феодосием, бывшими в его глазах еретиками; оставаясь же на своем посту, он мог, хотя в слабой степени, оказывать противодействие тому протестантскому влиянию, представителями которого были Феодосий и Феофан. Вероятно, это соображение и заставляло престарелого иерарха оставаться на постылом для него месте. Между тем назревала полная реформа нашего церковного управления. Новые формы этого управления вырабатывались по предложению государя ненавистным С. Прокоповичем, и ему пришлось даже принять участие в том новом учреждении, которое было поставлено на место патриаршества; при учреждении в 1721 г. духовной коллегии или святейшего правительствующего Синода С., по воле государя, был назначен его президентом. Есть известие, что С. так говорил об этом своем назначении: "Государь меня определял в Синод, а я не хотел, и за то стоял перед ним на коленях под мечом". Никакой видной роли в Синоде его президент но играл, по болезни даже и посещал его редко, а если и посещал, то часто не соглашался с мнением синодского большинства: еще на одном из первых заседаний синода С. высказал недовольство по поводу возношения молитв на ектениях об одном только свят. правит. синоде и предлагал поминать наряду с синодом других православных патриархов. Синод, однако, не согласился с этим особым мнением своего президента. Весьма характерна подпись С. под этим мнением: "Стефан недостойный митрополит, старец немощной". Видимо, физические недуги постоянно уже в это время тяготили его. Но кроме болезней на престарелого митрополита в последние годы его жизни обрушился еще целый ряд крупных неприятностей: со времени учреждения синода он постоянно находился под каким-либо делом: так, еще в 1720 г. судился кабальный человек Любимов, который написал акафист Алексию, человеку Божию, надеясь снискать милость царевича. Любимов говорил, что его произведение хвалил и С. Феофан и Феодосий предложили митрополиту по этому поводу вопросные пункты, на которые С. пришлось отписываться. Гораздо важнее было дело, возникшее уже незадолго до смерти С.: в апреле 1722 г. в Москву привезли монаха пензенского Предтеченского монастыря Варлаама Левина, которого обвинили в том, что он называл Петра антихристом; на допросе Левин показывал, что его несколько раз принимал к себе митрополит рязанский, который в разговоре с ним называл императора иконоборцем. С. вновь потянули к допросу, причем начальник страшной тайной канцелярии спрашивал государя, где допрашивать С. - в тайной канцелярии или в синоде; государь высказался за последний. Однако 6 июля члены Синода и Сената, вследствие болезни С., явились к нему на дом для допроса, на котором он всецело отрицал извет; ввиду этого ему дали очную ставку с Левиным; последний стоял на своем. Левина через несколько дней казнили, и перед смертью он просил прощения у митрополита за то, что неправедно его оклеветал. Через четыре месяца после допроса по делу Левина С. уже не было в живых. Видимо, нравственная пытка, которой подвергали больного старика, ускорила его кончину. Митрополит, бывший истинным аскетом, смотревший на здешнюю жизнь как на юдоль плача и стенаний, уже давно готовился к смерти и потому распорядился своим имуществом заблаговременно. Последние годы его жизни любимым его детищем был основанный им на своей родине Нежинский Богородичный-Назарет монастырь; ему он еще при жизни отослал все бывшие у него деньги и часть своей библиотеки. В своем "тестаменте" и все остальные свои "сокровища" - книги, он оставлял монастырю на вечное владение и пользование. При этом с удивительной заботливостью он определял правила устройства монастырской библиотеки, имея в виду наилучшую сохранность книг. Каталог их, им самим составленный, он снабдил трогательной элегией на латинском языке: "Идите, милыя книги, прежде так часто находившиеся в моих руках! Идите, слава моя, мой свет, мое сокровище"... - писал умиравший митрополит; элегия заканчивалась: "Вы, книги и сочинения мои, простите! Приобретенная трудами моими библиотека, прости! Простите, братия и сожители! Простите все. Прости и ты, гостиница моя, любезная мать-земля!"... Так прощался со здешним миром этот замечательный человек.
С. скончался 27 ноября 1722 г. в два часа ночи, в своем рязанском подворье в Москве. Смерть его примиряла со всеми: он посылал свое последнее целование царю, так много причинившему ему страданий, членам синода, из которых большинство были его враги, и своей любимой рязанской пастве. Похороны митрополита были отложены до возвращения Петра из астраханского похода. 20 декабря в присутствии государя члены синода совершили отпевание, и тело почившего святителя было отправлено для погребения в Рязань, где и было предано земле 27 декабря в Успенском соборе; в настоящее время останки митрополита покоятся в Малоархангельском рязанском соборе.
Еще за восемь лет до кончины С. закончил свой крупнейший научный и литературный труд, увидать который напечатанным ему так и не пришлось. Он работал над составлением своего знаменитого "Камня веры", который должен был служить, по его мысли, главным орудием православной полемики против протестантизма. Прежде думали, что Петр В. препятствовал появлению в свет этого труда, но в настоящее время, после исследования протоиерея Морена, мы знаем, что Петр ничего не имел против печатания этого труда. Ho сам С. только в 1717 г. после многих исправлений решил приступить к печатанию "Камня веры". В письме своем к архиепископу черниговскому Антонию он просил последнего, "аще где либо (в его книге) жестокая досада на противников обретается, оную надобе удалити или умягчити"... Однако окончательно напечатана была книга только в октябре 1728 г. Успех этого первого издания был необычайный: напечатанное в количестве 1200 экземпляров, оно разошлось в один год. Издание было повторено в 1729 и 1730 гг. Характерна последующая судьба "Камня веры": когда при Анне Иоанновне во главе правительства стали немцы, распространение книги было воспрещено, и оставшиеся в типографии экземпляры опечатаны. Это запрещение тяготело над "Камнем веры" до воцарения Елисаветы Петровны, когда восторжествовала русская, православная партия.
Книга, имевшая такой успех, действительно по своему времени представляет замечательное явление: это было полное систематическое изложение православного вероучения, главным образом в тех пунктах, в которых оно разногласит с протестантским. Здесь находятся обширные трактаты: о св. иконах, мощах святых, таинстве евхаристии, призывании святых, священном предании, благих делах, наказании еретиков и других богословских вопросах. Многое в этих трактатах С. заимствовал из сочинений знаменитых римско-католических богословов Беллярмина и Бекана; иногда в сочинении встречаются и мысли, не вполне согласные с духом православной церкви, но все же общий характер книги вполне оригинален, изложение самых отвлеченных богословских истин живое, увлекательное, подчас даже страстное, и самый труд имел громадное значение для православной церкви в первой половине XVIII в., когда ей приходилось вести упорную борьбу с протестантской пропагандой, которой иногда содействовало и само правительство... Католическая пропаганда тогда была вовсе неопасна, и нельзя обвинять С. за то, что он мало полемизировал с католичеством и все свое внимание обращал на борьбу с протестантизмом. Вообще, если в отношении к реформам Петра Великого С. не высказал ясного, определенного взгляда, колеблясь постоянно то в ту, то в другую сторону, то роль и значение его в истории православной русской церкви были безусловно плодотворны: мы еще не знаем, как бы далеко была увлечена русская церковь на путь протестантизма, если бы во главе ее в начале XVІІІ в. стояли только люди вроде Феофана Прокоповича или Феодосия Яновского. С. деятельно боролся с этим опасным протестантским течением и создал целую школу учеников и последователей, которые, занимая впоследствии важные иерархические места в русской церкви, в тяжелые времена владычества немцев удержали ее от опасных увлечений протестантизмом.
Источниками для биографии С. Яворского служит прежде всего предисловие к "Камню веры" и его сочинения: "Проповеди блаженной памяти Стефана Яворского, преосвященного митрополита Рязанского и Муромского, бывшего местоблюстителя престола патриаршего". M. 1804-1805 гг., части І - III. (здесь же I-й части его жизнеописание) - И. Чистович, "Неизданные проповеди митрополита Ст. Яворского", Христианское Чтение", 1867 г., ч. I и ІI. - "Письма митр. Стеф. Яворского" в "Трудах Киев. Дух. Акад.", 1866 г., т. I. - С. Рункевич, "Архиерей Петровской эпохи в их переписке с Петром В.", вып. І, СПб. , 1906 г. (здесь на стр. 139-186 напечатаны весьма интересные письма С. к Петру). - "Риторическая рука. Сочинение Ст. Яворского, перевод с латинского Федора Поликарпова" Изд. Отд. л. Др. Письм., 1878 г. - Затем краткие биографические сведения о С. мы можем почерпнуть в "Словаре историческом о бывших в России писателях духовного чина" митр. Евгения, т. II, стр. 251-255; в "Словаре достопамятных людей русской земли", Бантыш-Каменского, стр. 101-104 и "Опыте исторического словаря о российских писателях" Новикова. - Затем биографические сведения о С. можно найти в следующих источниках: "Письма и бумаги Императора Петра В.", СПб. , 1887 г., т. I - III. - "Деяния Петра В." Голикова (сведения о С. попадаются во всех томах). - "Описание документов и дел, хранящихся в Свят. Правит. Синоде за 1721 год" (особенно "Приложения"; кое-что, главным образом о "Камне веры", встречается и в описании последующих годов). - "История Нежинского Богородичного монастыря", М., 1815 г. - "Сборник писем И. Т. Посошкова к митрополиту Стефану Яворскому", изд. В. И. Срезневским, СПб. 1900 г. - Воздвиженский, "История Рязанской иерархии" М. 1820 г.
Литература. Лучшей биографией С. до сих пор служит сочинение Ф. Терновского, "М. Стефан Яворский", "Тр. Киев. Дух. Акад.". т. І, стр. 36-70, 237-290; т. II, стр. 137-186. Дополнением этой работы служат того же автора: "Очерки из истории русской иерархии в XVIII в. Стефан Яворский", "Древняя и Новая Россия", 1879 г., № 8, стр. 305-320 и "Рожнец духовный" и "Камень веры". Два полемических сочинения против московск. еретиков", "Правосл. Обозр.", 1863 года, декабрь. Важное значение имеет до сих пор сочинение Ю. Ф. Самарина, "Стефан Яворский и Феофан Прокопович", М., 1880 г. ("Собрание сочинений Ю. Ф. Самарина", т. V) с обширным предисловием прот. и проф. Иванцова-Платонова (сочинение это написано еще в 40-х гг. прошлого столетия, но тогда могла быть напечатана только третья часть его: "Стефан Яв. и Феофан Прокопович, как проповедники", а другие две части - С. Яворский и Феофан Прокопович, как богословы и как сановники церкви, - увидели свет только в 1880 г.). - О С. Яворском приходится, конечно, говорить всем историкам, работавшим над эпохой Петра В.; Соловьев, "История России", т. XV - ХVIII (по указателю Рогожина). - Устрялов, "История Царствования Петра В.", т. III и VI, где выяснена роль С. в деле Царевича Алексея. - А. Доброклонский, "Руководство к истории русской церкви", вып. IV, M. 1893 г. - С. Г. Рункевич, "История русской церкви под управлением Свят. Правит. Синода", СПб. , 1900 г.", стр. 62-91, 166-177 (здесь на основании новых архивных материалов ярко очерчена личность С. и его отношение к Петру В.). - И. Чистович, "Феофан Прокопович и его время", СПб. , 1868 г. (критический разбор этого сочинения у Сухомлинова в "Журн. Мин. Нар. Пр." за 1869 г.). - Из мелких общих работ о С. Яворском известны: Некоторые сведения о жизни преосв. Стефана Яворского", "Воскресное Чтение", 1850-51 гг., XIV, № 26. - Свящ. Родосский, "Стефан Яворский, митроп. рязанский и муромский", "Странник", 1863 г., ноябрь. - В. Аскоченский, "Киев с древнейшим его училищем, Академией", ч. I, стр. 228-229, 245-249. - Об отношении к С. патр. Досифея: Каптерев, "Сношения Иерусалимского патр. Досифея с русским правительством (1699-1707 гг.)", М., 1891 г. - О деятельности митр. С. в роли устроителя Московской духовной академии: С. Смирнов, "История моск. славяно-греко-латинской академии", M., 1855. - П. Знаменский, "Духовные школы в России до реформы 1808 г.", Каз., 1881 г. - Об управлении С. патриаршей областью: Н, Розанов, "История московского епархиального управления", т. I. - О С. как проповеднике и деятеле русской литературы: Пекарский, "Наука и литература при Петре В.", т. І и II - П. Морозов, "Феофан Прокопович как писатель", СПб. 1880 г. - А. Архангельский, "Духовное образование и духовная литература при Петре В.", Каз., 1883 г. - И. Порфирьев, "История русской словесности", часть II, отд. I. - А. Пыпин, "История русской литературы", т. III. - Преосв. Филарет, "Обзор русской духовной литературы", кн. I. - "О трех проповедниках Петрова времени", "Журн. Мин. Нар. Пр.", 1833 г. ч. VII, № 7, II, стр. 1-41. - "О церковно-ораторских произведениях митр. Стефана", "Воскр. Чтение", 1850-51, XIV, стр. 257-265. - Д. Извеков, "Проповедническая и противопротестантская литература на Руси", "Правосл. Обозр.", 1871, янв., стр. 80-90. - П. Савлучинский, "Русская духовная литература первой половины XVIII в. и ее отношение к современности", "Тр. Киев. Дух. Ак.", 1878, апр., стр. 128-190. - Об отношении С. к расколу и сектантству: "Местоблюститель патриаршего престола митр. рязанский Стефан Яворский и Дм. Тверетинов", "Приб. к твор. св. отцов", 1862, кн. III, - Тихонравов, "Московские вольнодумцы начала XVIII в. и Стефан Яворский", "Русский Вестник", 1870-1871 (перепечатано в "Сочинениях", M. 1898, т. II). - Есипов, "Раскольнические дела XVIII стол.", т. I (исследованы дела Гр. Талицкого и Варлаама Левина). - Некоторые замечания насчет "Камня Веры": И. Соколов, "Отношение протестантизма к России в XVI и XVII вв.", М., 1880 г. - Д. Извеков, "Из истории богословской полемической литературы XVIII в.", "Правосл. Обозр.", 1871, авг. - Н. Покровский "Борьба с протестантскими идеями в Петровское время и кн. Михаил Кропоткин", "Русск. Вестн.", 1872 г., сент. - Все эти исследования теряют свое значение после появления в свет в 1904 г. капитального исследования протоиерея И. Морева, "Камень Веры митроп. Стефана Яворского, его место среди отечественных противопротестантских сочинений и характеристические особенности его догматических воззрений" (об этой книге отзывы: Проф. Ленорского в "Журн. заседаний Сов. СПб. Дух. Акад.", 1901-02 г., стр. 167-192; проф. Пономарева, там же за 1903-04 г., стр. 148-153 и в брошюре "К литературной истории "Камня Веры", СПб. , 1905 г.) - Перу прот. И. Морева же принадлежит краткая статья, "Камень Веры", в VIII т. "Правосл. богосл. энциклопедии", 1907 г., стр. 187-193 и брошюра, "Митр. Стефан Яворский в борьбе с протестантскими идеями своего времени", СПб. 1905 г.
Митрополит Рязанский и Муромский, местоблюститель патриаршего престола и первый президент Святого Синода – один из самых замечательных иерархов русской церкви при Петре Великом. Стефан, в мире Семен Иванович Яворский, родился в местечке Яворе в 1658 г. Ученые до сих пор не пришли к единомыслию относительно вопроса, где находилось это место родины Стефана – в Галиции или на Волыни. Но во всяком случае родители Стефана, бывшие мелкими шляхтичами, жили в той правобережной Украине, которая по андрусовскому мирному договору 1667 г. осталась за Польшей. Люди по-видимому небогатые, они, однако, после этого события, чтобы окончательно избавиться от гонений на свою православную веру со стороны поляков, решили переселиться на левый берег Днепра, в пределы Московского государства, – именно в сельцо Красиловку, недалеко от города Нежина. Это сельцо для семьи Яворских сделалось второй родиной: здесь умерли родители Стефана, и здесь же, в Нежине, впоследствии служили его братья. Образование Яворского началось, конечно, еще до переселения в Красиловку. Теперь же он, по словам одного своего биографа, «юн сый, горя желанием учения», отправился в Киев, где поступил в знаменитую Киево-Могилянскую коллегию, – средоточие тогдашней южнорусской образованности. Когда он прибыл в Киев, мы с точностью определить не можем, но во всяком случае это было не раньше 1673 г., а, вероятно, гораздо позже. Пробыл он в Киевской академии до 1684 г. Здесь молодой Яворский обратил на себя внимание известного киевского проповедника, иеромонаха Варлаама Ясинского, впоследствии бывшего архимандритом Киево-Печерским, а затем митрополитом киевским. Сам Варлаам был учеником заграничных иезуитских коллегий, и вот он, уверившись в несомненных дарованиях Яворского, решил повести его тем же путем, каким шел сам, и в 1684 г. отправил его за границу для довершения духовного образования. Для того, чтобы беспрепятственно слушать философию в иезуитских коллегиях во Львове и Люблине и богословие в Вильне и Познани, Яворский должен был, по крайней мере наружно, сделаться униатом и даже принять новое имя, Станислава-Симона. Впоследствии враги митрополита постоянно ставили ему в вину это вынужденное вероотступничество, но вряд ли справедливо: поступок Яворского был самым обыкновенным в то время; так поступали все сколько-нибудь известные южнорусские ученые, например, Иннокентий Гизель и Епифаний Славенецкий. Учение в католических школах не мешало им быть затем самыми ревностными борцами за православную веру. Как бы то ни было, но Яворский в польских училищах «прошел вся учения грамматическая, стихотворская, риторская, философская и богословская» и получил диплом, в котором назывался «artium liberalium et philosophiae magister, consummatus theologus». Образование Яворского, полученное им в этих польских училищах, дало ему, во-первых, все те духовные средства, которые были необходимы ему при его будущем высоком служении православной церкви, во-вторых же, определило и особенности его умственного развития и сильно повлияло на склад его убеждений, в основе которых всегда лежали идеи авторитета и традиции. Вероятно, отсюда же будущий митрополит вынес и особенное свое нерасположение к протестантизму. В 1689 г. Яворский вернулся в Киев; здесь он, конечно, немедленно отрекся от католицизма, и « о чадех своих пекущися и Отцу небесному сообразная, примером блуднаго сына, Стефана приняла и властию ключей Христовых простила и разрешила», говорит одна последующая апология Стефана. В киевской академии Яворский был подвергнут испытанию и между прочим обнаружил при этом испытании такие способности слагать стихи латинские, польские и русские, что киевские ученые почтили его высоким титулом poeta laureatus. В это время Яворский находится опять под покровительством Варлаама Ясинскаго, который все убеждал его принять монашество. Наконец, в 1689 г. Яворский принял иноческий чин, будучи пострижен самим Варлаамом и получив при пострижении имя Стефана. В следующем же году покровитель и благодетель Стефана Варлаам был избран в митрополиты киевские, и Стефан, проходивший до этого времени монастырское послушание в Киево-Печерской лавре, был назначен в академии преподавателем риторики и витийства. В 1691 г. он был уже префектом академии и профессором философии, а через несколько лет и профессором богословия. Деятельность Стефана в качестве академического преподавателя была весьма благотворна: вместе с ним в академии, можно сказать, утверждалось последнее слово латинской богословской и философской мысли. Его биограф в приложении к «Камню Веры» так говорит о его деятельности в академии: «Стефану восприемшу учительство уже не бе нужда малороссийским юношамъ искати учения в чужих государствах, вся бо требуемая обретахуся в Киеве, удобе снискаемая от таковаго учителя». В академии Стефан воспитывал целый ряд будущих учителей, проповедников и администраторов. Между его питомцами был, вероятно, и его будущий соперник, знаменитый впоследствии Феофан Прокопович. Когда Стефан был уже митрополитом, враги обвиняли его в том, что при нем Киевская академия сделалась рассадником «папожскаго учения». Но это бездоказательное обвинение легко опровергается тем, что до нас дошли богословские лекции Стефана, в которых последний тщательно опровергает заблуждения римско-католической церкви. Впрочем, был один пункт в его воззрениях, в котором он был в противоречии с церковью московской. Как раз в Москве в это время велись ожесточенные споры о времени пресуществления св. даров. Сильвестр Медведев защищал мысль о том, что пресуществление св. даров совершается одними словами Спасителя без призывания св. Духа. Это учение было, несомненно, заимствовано им от латинской церкви. Стефан тоже принял участие в споре, и, хотя держался среднего примирительного пути, но все же это последнее обстоятельство сильно повредило ему в глазах многих, долгое время считавших его «латынником».
Вместе с деятельностью ученой и преподавательской Стефан совмещал в это время и деятельность проповедника. Между прочим, он произнес проповедь в Батурине при бракосочетании пана Иоанна Обедовского, нежинского полковника, племянника Мазепы; проповедь эта проникнута глубоким уважением к готману. Вместе с тем Стефан постоянно помогает своему митрополиту в епархиальном управлении. В 1697 г. он был назначен игуменом Свято-Никольского Пустынного монастыря близ Киева на место Иоасафа Кроковского. На это назначение Стефан мог смотреть как на переходную ступень к епископству. В это время он не только «помоществовавше кафедре митрополичьей въ духовных и епаршеских делахъ», но по делам митрополита бывал даже и в Москве. В январе 1700 г. митрополит Варлаам отправил его вместе с игуменом Захарией Карпиловичем в Москву с письмом, в котором просил патриарха Адриана учредить переяславскую кафедру и назначить на нее одного из присланных игуменов. Однако Стефана в Москве ожидало новое, совершенно для него неожиданное высокое назначение. Патриарх Адриан, уже больной, принял присланных игуменов и обещал поговорить о переяславской кафедре с государем, а пока игумены жили на малороссийском подворье. Но тут случилось обстоятельство, которое определило дальнейшую судьбу Стефана. В Москве скончался знаменитый военачальник боярин Алексей Семенович Шеин. Стефан при погребении говорил надгробное слово, а в необыкновенном уменье проповедовать ему не отказывали и его злейшие враги. И вот проповедь малорусского игумена произвела сильнейшее впечатление на слушателей, а среди них был сам государь. Петр сразу заметил талантливого человека п говорил патриарху, что игумена Стефана нужно посвятить в архиереи на какую-нибудь из великорусских епархий, «где прилично, не в дальнем разстоянии от Москвы». Стефану же самому было приказано оставаться в Москве, «доколе же обыщется где место архиерейское праздное и приличное». Таковое открылось в скором времени в Рязани. А между тем Москва Стефана встретила не особенно приветливо: ему готовили архиерейское место, а в то же время ничего не давали на прожитие, так что он должен был в феврале просить начальника посольского приказа адмирала Головина о назначении ему содержания и жалования со старцами. 15 марта ему был объявлен приказ патриарха, чтобы он на другой день готовился к наречению, но Стефан на другой день не явился, а уехал в Донской монастырь, а 1 апреля подал опять Ф. А. Головину небольшой трактатец под названием: «Вины, для которых ушелъ я от посвящения» ... Но ничто не помогло; настойчивость Петра, конечно, превозмогла, и 7 апреля 1700 г. Стефан был поставлен в рязанские митрополиты. В июле того же года он был уже в Рязани и деятельно занялся делами своей епархии; однако заниматься только одной своей епархией ему суждено было недолго. 15 октября того же года скончался патриарх Адриан. Прибыльщик Курбатов, отписывая государю о кончине патриарха, советовал ему с избранием нового патриарха повременить, а пока для заведывания делами патриаршего управления выбрать кого-нибудь из архиереев в местоблюстители. На эту должность Курбатов рекомендовал Афанасия, архиепископа холмогорского. Предложение Курбатова шло, вероятно, навстречу мыслям самого Петра, и государь патриарха не назначил, согласившись на должность местоблюстителя, но на нее поставил не Афанасия, а митрополита рязанского. Таким образом, 42-летний Стефан в самый короткий промежуток времени сделался из простых игуменов высшим лицом в русской церкви. Сам Стефан вовсе не искал этой чести; он тосковал по своей Малороссии и опасался больших неприятностей на новом высоком поприще. Многие из москвичей, вероятно, были недовольны назначением Стефана, этого «черкаса и обливанца», но, конечно, не могли открыто выражать своего неудовольствия. Был этим очень недоволен, и иерусалимский патриарх Досифей и в 1702 г. писал Петру Великому письмо, в котором предостерегал государя вообще против духовных лиц из малороссов и не советовал ни в каком случае делать Стефана патриархом. Петр не обратил на письмо никакого внимания, но сам Стефан отправил к патриарху оправдательное письмо. Досифей, однако оправданиями его не удовлетворился и 15 ноября 1703 г. отправил митрополиту обширное письмо, в котором никак не хотел считать Стефана вполне православным. Только преемник Досифея, патриарх Хрисанф, окончательно примирился с местоблюстителем.
Между тем новому местоблюстителю предстояло много самой разнообразной работы на своем поприще. Благодаря нововведениям Петра, обострился еще раньше возникший в русской церковной жизни вопрос раскольнический. С этим прежде всего и пришлось столкнуться Стефану. В 1700 г. еще возникло дело книгописца Григория Талицкого, который распространял в народе тетрадки, в которых Москва называлась Вавилоном, а Петр Великий антихристом. Стефан должен был увещевать этого фанатика; Талицкий, конечно, остался при своих мнениях, и киевский ученый не мог убедить московского начетчика. Однако для Стефана эти прения не пропали даром, и в 1703 г. он издал книжку, направленную против заблуждений Талицкого, под названием «Знамения пришествия антихристова и кончины века». В этом сочинении Стефан заимствовал многое от испанского богослова Мальвенды. В своих проповедях митрополит также довольно часто обращался с увещанием к раскольникам. Епархиальные архиереи по делам раскола также сносились с ним. В последний период жизни Стефана известно еще его участие в одном деле против раскола, которое, однако не принесло никакой пользы православной церкви в 1718 г. по его благословению было напечатано «Соборное деяние на еретика армянина на мниха Мартина». Соборное деяние – это несомненно подложно, и его подложность была еще доказана старообрядцами в их «Поморских ответах». Трудно сказать, принимал ли деятельное участие в этом деле сам Стефан, по всей вероятности, он из своей слабохарактерности согласился прикрыть своим именем тот литературный подлог, который был совершен известным Питиримом по приказу Петра. Кроме дел раскола на местоблюстителя была возложена обязанность избирать кандидатов для пустующих епархий и посвящать их во епископы. Из его ставленников особенно известны: священник Димитрий Туптало (митрополит ростовский), Филофей Лещинский (митрополит сибирский), Иоасаф Кроковский (митрополит киевский) и митрополит ростовский Досифей, впоследствии казненный по делу царевича Алексея. Кроме общего надзора за делами русской церкви Стефану приходилось управлять еще двумя большими епархиями, патриаршей и рязанской. Вследствие множества дел и частого отсутствия из Рязани он не мог, конечно, посвящать своей кафедре столько времени, сколько хотел. По крайней мере в одном из своих предсмертных писем он скорбит о том, что был далек от своей паствы.
Кроме дел церковно-административных в обязанности Стефана лежали еще дела духовно-учебные, так как государь назначил его и протектором Московской академии. Эту академию он устроил по образцу Киевской, «заведя в ней учения латинская», назначая на должность ректоров и префектов своих киевских учеников. В течение 16 лет (1706–1722) во главе Московской академии находился архимандрит Феофилакт Лопатинский, искренний и преданный его почитатель. Стефан принимает участие во многих ученых предприятиях своего времени: он между прочим помогает известному Федору Поликарпову в издании последним «Лексикона треязычнаго» (1704 г.). Он пользуется высоким ученым авторитетом в русском обществе. Такой замечательный русский человек, как Посошков, подает ему свои «писания» и «доношения» относительно устройства наших духовных школ. Стефана с этой стороны знают и за границей: по крайней мере именно к нему обращался в 1712 г. с письмом знаменитый германский философ Лейбниц, говоря о необходимости для распространения христианства перевести на языки живущих в России инородцев 10 заповедей, Отче наш и .
Кроме всех этих многоразличных дел и забот Стефан не забывал и своего проповедничества: он произносит свои «изрядныя предики» по случаю всякого более или менее важного политического или церковного события: говорит проповеди по поводу побед царского оружия, – взятии Шлиссельбурга, Нарвы, Риги, торжественно славит Петра после Полтавской победы, доказывает необходимость заведения флота на Балтийском море и т.д. В 1708 г. в Успенском соборе вместе с другими иерархами он предает торжественной анафеме Мазепу и произносит приличествующую этому случаю проповедь . Его проповеди проникнуты вполне схоластическим духом, они наполнены патетическими местами, аллегориями, анекдотами и т.п. Справедливость, однако, требует добавить к этому, что иногда ревность и любовь к церкви невольно заставляют Стефана сбросить в своих проповедях тяжелую схоластическую форму, и тогда речь его приобретает действительно искренний и задушевный тон.
Каковы же, однако в это время были отношения Стефана к Петру? В начале его местоблюстительства они ничем не нарушались: Петр весьма благоволил к Стефану, назначил ему довольно хорошее жалованье, в 1711 г. подарил ему на Пресне двор с садом и прудом и, по словам самого Стефана, часто жаловал ему за победительные проповеди «овогда тысячу золотых, овогда меньше». Во время своих походов царь постоянно переписывается с местоблюстителем, сообщая ему о своих трудах и победах. Но Стефан далеко не был доволен своим по внешности блестящим положением: уже в письме к его лучшему другу, св. Димитрию Ростовскому , в 1707 г. звучат скорбные нотки; он жалуется на «безчисленныя суеты» и «неудобостерпимое бремя», называя Москву Вавилоном. У Петра он просится на киевскую кафедру, но тот его не отпускает. В 1706 г. в Москве пронесся даже слух, что митрополит собирается принять схиму, так что Мусин-Пушкин было даже запретил всем архимандритам и священникам под страхом наказания постригать его в схиму. Волей-неволею Стефану по настоянию государя пришлось вернуться в Москву к своему скучному местоблюстительству. Главной причиной недовольства Стефана было то, что он видел себя обладателем только громкого титула «Екзарха святейшего патриаршего престола блюстителя и администратора». «При тогдашних обстоятельствах церковной и общественной жизни», справедливо говорит г. Рункевич, «роль блюстителя патриаршего трона представлялась двусмысленною, жалкою декорацией, за спиной которой светские власти делали, что хотели» ... Есть известие, что Стефан будто бы лично делал намеки государю о патриаршестве, а государь, говорят, на это ответил: «Мне этого места не ломать, а Яворскому на нем не сидеть». Но вряд ли Стефан не мог видеть, что и титул патриарха при тогдашних отношениях светского правительства к церкви никакой власти ему не прибавит. Он постепенно разочаровывался в Петре Великом; теперь он видел в государе человека не только не радящего о церкви, но даже, пожалуй, враждебного ей, друга ненавистных Стефаном протестантов. И вот местоблюститель постепенно, очень осторожно переходит из «Петра Великого дел славных проповедника» в его обличителя. Та манера проповедничества, которой он держался, давала ему возможность делать весьма прозрачные намеки на современных лиц и современные события. Впрочем, в начале эти обличительные намеки остаются только на бумаге. Еще в 1708 г. на день св. Иоанна Златоуста (13 ноября) Стефан приготовил проповедь, в которой обличал отобрание церковных имуществ и говорил о царе Валтасаре, пировавшем из сосудов церковных; в ней даже есть намек на петровские ассамблеи. Однако на этой проповеди есть отметка: non dictum, – следовательно, она не была произнесена. Не была произнесена и проповедь, в которой говорилось о «муже прелюбодейном», посхимившем свою жену. Но все более и более накоплявшееся у митрополита раздражение против Петра прорвалось наружу окончательно в 1712 г., когда он 17 марта в день именин царевича Алексея произнес свою знаменитую проповедь о фискалах, которые, действительно, творили большие злоупотребления. День именин царевича был выбран Стефаном не даром: все более и более отдаляясь от Петра, он должен был, как и многие другие современники, смотреть с надеждой и упованием на царевича, который, как всем было известно, вовсе не похож на отца. Сенаторы, присутствовавшие при этой проповеди, нашли ее возмутительной, и сенат потребовал Стефана к ответу. Тогда тот 21 марта того же года обратился к Петру с письмом, в котором вновь убедительно просил отпустить его в Донской монастырь на покой. Однако, эта выходка митрополита против Государя прошла ему безнаказанно; говорят, царь только на рукописи проповеди в том месте, где была написана особенно резкая выходка против «мужа законопреступнаго», сделал пометку: «Первее одному, потомъ же со свидетелями», давая этим Стефану понять, что тот должен был сначала обличить его с глазу на глаз, но митрополит на такой смелый поступок не был способен, – в присутствии царя он робел и терялся. В последующей переписке своей с Петром Стефан редко был искренним; подписывался на своих письмах он всегда весьма характерно: «Вашего царскаго пресветлаго Величества верный подданный, недостойный богомолец, раб и подножие Стефан, пастушок рязанский». А между тем, в это самое время этот «недостойный богомолец» осмелился поднять такое дело, которое царю было весьма неприятно, – начал знаменитый розыск против лекаря Димитрия Тверетинова. В начале XVIII в. немецкая слобода особенно разрослась, разбогатела и сделалась центром протестанской пропаганды; немцы старались доказать, что различия между православной церковью и лютеранством facillime legitimeque uniuntur (легко и законно согласуются). Вместе с тем они в Москве искали себе адептов среди православных. Таким адептом протестантизма и явился вольнодумец Тверетинов, который уже много лет распространял в Москве свои воззрения. Дело было первоначально начато против школьника Ивашки Максимова, который оговорил Тверетинова и некоторых его последователей. Однако лекарь и один из его сторонников, фискал Михайла Косой, бежали в Петербург и там нашли себе покровителей в лице некоторых сенаторов, врагов Стефана, и архимандрита Александро-Невской лавры Феодосия. Здесь еретики были признаны православными, и 14 июня 1714 г. сенат указал Стефану принять еретиков и объявить торжественно о их правоверии. На этот раз он, однако, решил не уступать и 28 октября обратился к государю с обширным письмом, в котором, излагая обстоятельства дела, указывал на полную невозможность исполнить распоряжение сената. Царю, видимо, весьма не нравилось направление, данное делу Тверетинова митрополитом, и 14 декабря последовал указ о вытребовании всего дела в Петербург и о явке туда же самого Стефана со всеми свидетелями. Стефан на это ответил просьбой к царю отпустить его в Нежин на освящение церкви. Петр отказал, и Стефану пришлось отправиться в Петербург. Здесь в марте 1715 г. дело Тверетинова вновь рассматривалось и приняло совершенно неблагоприятный оборот для местоблюстителя: из обвинителя он превратился как бы в обвиняемого. Дошло даже до того, что 14 мая, когда Стефан для слушания дела пришел в судебную избу, «сенаторы, как он сам пишет царю, с великим студомъ и жалем изгнали его вонъ». Недовольный и обиженный, Стефан усиленно просить отпустить его в Москву. Наконец 14-го августа желанное разрешение от царя было получено; Стефану, однако, хочется исполнить свое давнишнее желание – посетить свой родной Нежин, но Петр все его туда не отпускает. Тогда он 23 января 1716 г. сочиняет трогательное письмо на имя двухмесячного царевича Петра Петровича, прося его «походатайствовать о нем перед своим родителем». Должно быть, эта последняя просьба тронула суровое сердце Петра, потому что 25 июля мы видим митрополита торжественно освещающим свой храм в родном Нежине.
Между тем не успели еще заглохнуть в душе Стефана огорчения по делу Тверетинова, как над головой его стряслась новая, еще более крупная неприятность: 18 мая 1718 г. государь приказывал Стефану как можно скорее явиться в Петербург, чтобы принять участие в верховном суде по делу царевича Алексея. Раньше было отмечено, что Стефан более или менее сочувствовал царевичу; однако, по нашему мнению, О. М. Соловьев вполне прав, утверждая, что со своей скрытностью и необщительностью Стефан не мог быть особенно близок с царевичем, но несомненно и то, что окружающие постоянно твердили царевичу: «Рязанский къ тебе добр, твоей стороны и весь онъ твой». Во всяком случае, с тяжелым чувством должен был местоблюститель присутствовать на суде над тем человеком, на которого он возлагал многие свои надежды. Конечно, не без его влияния духовенство, спрошенное Петром о праве его казнить сына, высказалось определенно за помилование. Стефан же имел мужество восстать, хотя и безуспешно, против расстрижения епископа Досифея, замешанного в деле царевича и казненного. Митрополит сам отпевал и хоронил несчастного царевича.
В то самое время, когда в Петербурге решалось дело царевича, самое видное место среди иерархов русской церкви занял молодой Феофан Прокопович, против назначения которого в архиереи Стефан восставал всеми силами. Единомышленники и почитатели Стефана – ректор московской академии Феофилакт Лопатинский и преподаватель той же академии Гедеон Вишневский, – подали доношение, в котором обвиняли Феофана, тогда еще только кандидата на псковскую кафедру, в ереси. К этому обвинению присоединился и Стефан, соглашавшийся допустить Прокоповича к епископству только после отречения последнего от его протестантских заблуждений. Но и тут его ждала та же неудача, что и в деле Тверетинова: государь был сильно разгневан на него, и ему пришлось униженно просить прощения. Петр поручил сенатору Мусину-Пушкину «свести рязанскаго с Феофаном». Свидание состоялось, и между противниками произошло видимое примирение, хотя Феофан в своих проповедях и даже в «Духовном регламенте» впоследствии неоднократно позволял себе весьма непристойные выходки против престарелого митрополита.
Во все это время Стефан жил в неприятном ему Петербурге и должен был поневоле принимать участие во всех торжественных молебствиях; так, например, 29 июня 1719 г. он говорит проповедь в церкви св. Троицы, 21 июля того же года государыня приказывала ему молиться в церквах об успешном окончании шведской кампании. Вообще везде, где необходимо было, так сказать, внешнее церковное представительство, Стефан первенствует, но никакого влияния на дела он уже не оказывает, – тут государь постоянно предпочитает ему Феофана Прокоповича и Феодосия Яновского. Для нас несколько странно то обстоятельство, что именно в это тяжелое для Стефана время он уже не просится у Петра на покой. Г. Рункевич объясняет это тем, что, видя свое отдаление от царя, митрополит стал дорожить тем местом, от которого раньше отказывался, действуя в этом случае по обыкновенной человеческой психологии: не хранить того, чем обладаем, и стремиться к тому, чего лишаемся. Но, по нашему мнению, возможно и другое объяснение: Стефан теперь видел, что в случае ухода, он будет заменен или Феофаном, или Феодосием, бывшими в его глазах еретиками; оставаясь же на своем посту, он мог, хотя в слабой степени, оказывать противодействие тому протестантскому влиянию, представителями которого были Феодосий и Феофан. Вероятно, это соображение и заставляло престарелого иерарха оставаться на постылом для него месте. Между тем назревала полная реформа нашего церковного управления. Новые формы этого управления вырабатывались по предложению государя ненавистным Стефаном Прокоповичем, и ему пришлось даже принять участие в том новом учреждении, которое было поставлено на место патриаршества; при учреждении в 1721 г. духовной коллегии или святейшего правительствующего Синода Стефан, по воле государя, был назначен его президентом. Есть известие, что Стефан так говорил об этом своем назначении: «Государь меня определял въ Синод, а я не хотел, и за то стоял перед ним на коленях под мечомъ». Никакой видной роли в Синоде его президент не играл, по болезни даже и посещал его редко, а если и посещал, то часто не соглашался с мнением синодского большинства: еще на одном из первых заседаний синода Стефан высказал недовольство по поводу возношения молитв на ектеньях об одном только святом правительственном синоде и предлагал поминать на ряду с синодом других православных патриархов. Синод, однако, не согласился с этим особым мнением своего президента. Весьма характерна подпись Стефана под этим мнением: «Стефан недостойный митрополит, старец немощной». Видимо, физические недуги постоянно уже в это время тяготили его. Но кроме болезней на престарелого митрополита в последние годы его жизни обрушился еще целый ряд крупных неприятностей: со времени учреждения синода он постоянно находился под каким-либо делом: так, еще в 1720 г. судился кабальный человек Любимов, который написал акафист Алексию, человеку Божию, надеясь снискать милость царевича. Любимов говорил, что его произведение хвалил и Стефан. Феофан и Феодосий предложили митрополиту по этому поводу вопросные пункты, на которые Стефану пришлось отписываться. Гораздо важнее было дело, возникшее уже незадолго до смерти Стефана: в апреле 1722 г. в Москву привезли монаха пензенского Предтеченского монастыря Варлаама Левина, которого обвиняли в том, что он называл Петра антихристом; на допросе Левин показывал, что его несколько раз принимал к себе митрополит рязанский, который в разговоре с ним называл императора иконоборцем. Стефана вновь потянули к допросу, причем начальник страшной тайной канцелярии опрашивал государя, где допрашивать Стефана – в тайной канцелярии или в синоде; государь высказался за последний. Однако 6 июля члены Синода и Сената, вследствие болезни Стефана, явились к нему на дом для допроса, на котором он всецело отрицал извет; в виду этого ему дали очную ставку с Левиным; последний стоял на своем. Левина через несколько дней казнили, и перед смертью он просил прощения у митрополита за то, что неправедно его оклеветал. Через четыре месяца после допроса по делу Левина Стефана уже не было в живых. Видимо, нравственная пытка, которой подвергали больного старика, ускорила его кончину. Митрополит, бывший истинным аскетом, смотревший на здешнюю жизнь как на юдоль плача и стенаний, уже давно готовился к смерти и потому распорядился своим имуществом заблаговременно. Последние годы его жизни любимым его детищем был основанный им на своей родине Нежинский Богородичный-Назарет монастырь; ему он еще при жизни отослал все бывшие у него деньги и часть своей библиотеки. В своем «тестаменте» и все остальные свои «сокровища» – книги, он оставлял монастырю на вечное владение и пользование. При этом с удивительной заботливостью он определял правила устройства монастырской библиотеки, имея в виду наилучшую сохранность книг. Каталог их, им самим составленный, он снабдил трогательной элегией на латинском языке: «Идите, милыя книги, прежде такъ часто находившияся в моих руках! Идите, слава моя, мой свет, мое сокровище» ... – писал умиравший митрополит; элегия заканчивалась: «Вы, книги и сочинения мои, простите! Приобретенная трудами моими библиотека, прости! Простите, братия и сожители! Простите все. Прости и ты, гостиница моя, любезная мать-земля!» ... Так прощался со здешним миром этот замечательный человек.
Стефан скончался 27 ноября 1722 г. в два часа ночи, в своем рязанском подворье в Москве. Смерть его примиряла со всеми: он посылал свое последнее целование царю, так много причинившему ему страданий, членам синода, из которых большинство были его враги, и своей любимой рязанской пастве. Похороны митрополита были отложены до возвращения Петра из астраханского похода. 20 декабря в присутствии государя члены синода совершили отпевание, и тело почившего святителя было отправлено для погребения в Рязань, где и было предано земле 27 декабря в Успенском соборе; в настоящее время останки митрополита покоятся в Малоархангельском рязанском соборе.
Еще за восемь лет до кончины Стефан закончил свой крупнейший научный и литературный труд, увидать который напечатанным ему так и не пришлось. Он работал над составлением своего знаменитого «Камня веры», который должен был служить, по его мысли, главным орудием православной полемики против протестантизма. Прежде думали, что Петр Великий препятствовал появлению в свет этого труда, но в настоящее время, после исследования протоиерея Морева, мы знаем, что Петр ничего не имел против печатания этого труда. Но сам Стефан только в 1717 г. после многих исправлений решил приступить к печатанию «Камня веры». В письме своем к архиепископу черниговскому Антонию он просил последнего, «аще где-либо (в его книге) жестокая досада на противников обретается, оную надобе удалити или умягчити» ... Однако окончательно напечатана была книга только в октябре 1728 г. Успех этого первого издания был необычайный: напечатанное в количестве 1200 экземпляров, оно разошлось в один год. Издание было повторено в 1729 и 1730 гг. Характерна последующая судьба «Камня веры»: когда при Анне Иоанновне во главе правительства стали немцы, распространение книги было воспрещено, и оставшиеся в типографии экземпляры опечатаны. Это запрещение тяготело над «Камнем веры» до воцарения Елизаветы Петровны, когда восторжествовала русская, православная партия.
Книга, имевшая такой успех, действительно по своему времени представляет замечательное явление: это было полное систематическое изложение православного вероучения, главным образом в тех пунктах, в которых оно разногласит с протестантским. Здесь находятся обширные трактаты: о св. иконах, мощах святых, таинстве евхаристии, призывании святых, священном предании, благих делах, наказании еретиков и других богословских вопросах. Многое в этих трактатах Стефан заимствовал из сочинений знаменитых римско-католических богословов Беллярмина и Бекана; иногда в сочинении встречаются и мысли, не вполне согласные с духом православной церкви, но все же общий характер книги вполне оригинален, изложение самых отвлеченных богословских истин живое, увлекательное, подчас даже страстное, и самый труд имел громадное значение для православной церкви в первой половине 18 в., когда ей приходилось вести упорную борьбу с протестантской пропагандой, которой иногда содействовало и само правительство. Католическая пропаганда тогда была вовсе не опасна, и нельзя обвинять Стефана за то, что он мало полемизировал с католичеством и все свое внимание обращал на борьбу с протестантизмом. Вообще, если в отношении к реформам Петра Великого Стефан не высказал ясного, определенного взгляда, колеблясь постоянно то в ту, то в другую сторону, то роль и значение его в истории православной русской церкви были безусловно плодотворны: мы еще незнаем, как бы далеко была увлечена русская церковь на путь протестантизма, если бы во главе ее в начале 18 в. стояли только люди вроде Феофана Прокоповича или Феодосия Яновского. Стефан деятельно боролся с этим опасным протестантским течением и создал целую школу учеников и последователей, которые, занимая впоследствии важные иерархические места в русской церкви, в тяжелые времена владычества немцев удержали ее от опасных увлечений протестантизмом.